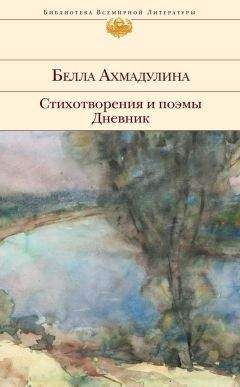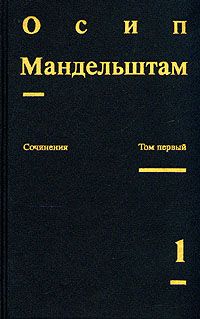Пред выходящим посетителем представала ужасающая картина Геенны огненной: алый и оранжевый пламень, черный дым, терзающие уголья, кипящие котлы, извивающиеся в мучениях, вопиящие и стенающие грешники. О чем думал грозно вдохновенный живописец, для нас безымянный: предостерегал ли, сам ли страшился и каялся, проклинал ли ведомых ему нехристей? Как бы то ни было, не убоялись его предупреждающего творения вооруженные недобрые молодцы.
Пришлось Ивану утешить нас лаской и опекой, чем он и теперь занимается время от времени.
Далее – сначала возмерещился вдали, потом вблизи явился сияющий куполами и крестами Ростов Великий. Подновленный пригожий блеск – приятная приманка для странников, желательно: чужеземных, но сошли и мы, особенно в мимолетной захудалой столовой, где то ли после заутрени, то ли небожно вкушал пиво воскресный люд. С удовольствием ощущая свою не-иностранность, приглядывались к пивопивцам, прислушивались к говору, приближающемуся к искомому. Затем – обозрели храмы, радуясь на множественных прихожан и отлично нарядных проезжих гостей, подчас крестившихся слева направо. Посетили трогательные окраины с престарелыми, дожившими до наших дней, когда-то процветавшими купеческими и мещанскими домами.
Миновали под вечер Карабиху, оставив ее себе на обратный путь, ночевали в Ярославле, в гостинице на берегу Волги, неожиданно оправдавшей свое название и предложившей нам пустующий «люкс». Но в этом лакированном и плюшевом «люксе» вспомнила я эпизод своего девятилетнего детства. Отец мой Ахат Валеевич, за годы войны раненный и контуженный, но уцелевающий в поблажках госпиталей, довоевался до медалей, ордена и звания майора. Двадцать лет, как он погребен, и остался у меня от него только гвардейский значок, да относительно недавно пришло письмо от его, много младшего, однополчанина, которое Борис прочел мне выразительно, как я тете Дюне ее «грамотку». Писано было про храбрость и доброту моего отца, про возглавленный им выход из опасно сомкнувшегося вражеского окружения к своим. Все это мне было грустно и приятно узнать, но клоню я к тому, что по новому его чину ему полагался ординарец, Андрей Холобуденко, тогда совсем юный и красивый, теперь – не знаю, какой. Я его очень помню, он дважды приезжал к нам в Москву с вестями и гостинцами от отца с побеждающего и победившего фронта. Так же сильно помню неразрывного с отцом военного друга добрейшего Ивана Макаровича. По окончании войны Андрей стал звать отца в разоренную Украину, Иван Макарович – в нищую Ярославщину, где сделался председателем доведенного до отчаяния колхоза. Отец думал, думал, примеривая ко мне обе красоты, оба бедствия. Надо было обживаться в чужом послевоенном времени, устраиваться на работу. Летом сорок шестого года выбрал Ивана Макаровича и малую деревеньку Попадинку. На Украине я побывала потом. И деревне Попадинке, где питалась исключительно изобильной переспелой земляникой, и хутору Чагиву, где по ночам с хозяйкой Ганной воровала жесткие колоски, – будут, если успею, мои посвящения, сейчас – только об Ярославле. Ехали мы туда в тесноте поезда, по которой гуляли крупнотелые белесые вши. Город успел осенить меня не белостенностью, не смугло-розовой кирпичностью, а угрюмым величественным влиянием – наверное, вот почему. Иван Макарович прислал за нами состоящий из прорех и дребезга грузовик. Родители поместились в кузове, я – рядом с водителем, явно неприязненным и ожесточенным, видно, хлебнувшим горюшка. Мы погромыхали по городу, вдруг он круто затормозил возле мрачного здания, я ударилась лбом о стекло – на то оно и лобовое. Он обо мне не сожалел, а уставился на длинную, понурую, значительно-примечательную очередь, и я стала смотреть на схожие до одинаковости, объединенные общей, отдельной от всех тоской, лица, будто это был другой, чем я, особо обреченный народ. Я подобострастно спросила: «Дяденька, а за чем эти люди стоят?» Он враждебно глянул на меня и с необъяснимой ненавистью рявкнул: «Затем! Передачу в тюрьму принесли». Отец постучал в крышу кабины – и мы поехали. Видение знаменитой Ярославской тюрьмы, лица, преимущественно женские, врозь съединенные бледно-голубой, как бы уже посмертной затенью, надолго затмили землянику, Волгу, милую изнемогшую Попадинку и теперь очевидны. Можно было бы вглядеться в тоже приволжское пятилетие моей жизни, когда, в казанской эвакуации, слабо гуливала я вкруг Черного по названию и цвету озера, вблизи тюрьмы, где в год моего рождения изнывала по маленькому сыну Васеньке Аксенову Евгения Семеновна Гинзбург, но безвыходный затвор я смутно видела и вижу – ко мне тогда уже подступало предсмертие беспамятной голодной болезни.
Описывать удобное наше ночевье в ярославской гостинице и воспоследовавшее обзорное дневье не стану – поспешаю, как впервые, к тете Дюне.
Уклоняясь от прямого пути, как я сейчас уклоняюсь, заезжали мы и в Борисоглебск, тогда называемый иначе, но действовали церковь и строка Пастернака: «У Бориса и Глеба – свет, и служба идет».
Возжигая полночную свечу, воздумаю о Преподобном Ефреме Сирине и о втором, но не Ефреме, в согласии души – не менее первом, ясно: кому посвящена ясногорящая свеча.
«Отцы-пустынники и дѣвы непорочны»
не отверзаютъ попусту уста.
Хочу писать, не мудрствуя, попроще, —
нѣтъ умысла сложней, чѣм простота.
Избранникомъ настигнута добыча —
но к ней извилистъ путь черновика.
Иль невзнать мигъ ему блеснулъ – да вышло:
званъ быстрый блескъ во многiя вѣка.
Взираетъ затишь ночи окомъ синимъ —
и я отвѣтно пялю взоръ въ окно.
Словамъ, какими Преподобный Сиринъ
молился Богу, – внялъ и вторилъ Кто, —
не укажу, чтобъ имени не тронуть:
Оно и такъ живетъ насторожѣ…
…Но Тотъ, о Комъ нѣмотствую, должно быть,
смѣется – я люблю, когда смѣшливъ.
Во мнѣ такiя нѣжность и незлобность,
цѣлуя воздухъ, спѣлись и сошлись.
Забава упражненья неказиста —
челомъ ей бью и множицей воздамъ.
Неграмотность ночного экзерсиса
проститъ ли мнѣ усмѣшкой добрый Даль?
Родимой речи на глухомъ отшибѣ
кто навѣститъ меня, если не онъ?
Не просвѣтилъ ущербы и ошибки
текущий выспрь, свѣчи прилежный огнь.
Закончу ль ночи списокъ неподробный,
пока спѣшитъ и бодрствуетъ високъ?
Простилъ бы только Сиринъ Преподобный:
послалъ смиренный, благодатный сонъ.
Опять мое ночевье не снотворно:
Ужъ предъ-рассвѣта приоткрылся зракъ.
Не опытно, не вѣдуще, не твердо —
пусть букву «еръ» слукавитъ твердый знакЪ.
А я все еще вязну в любезных мне, затягивающих заболотьях «еръ» и «ять» и мутных, дымных загородьях Ярославля. Но и без меня – «понявы светлы постланы, Ефрему Сирину наволоки». Тетя Дюня моя, до коей все ѣду и ѣду, называла «понявой» и повязь платочка вкруг головы, и фату, хоть при утаенном венчании и обошлась бѣлой «косинкой» – наискось, в половину треугольника сложенным, шелковым бабкиным платом. На пред-родителев грѣхъ вѣнца, усиленный покражей плата из сундука, трачу я последние трудоемкие «ять» и «еръ». Всю жизнь замаливала этот грех тетя Дюня, а велик ли грех, что великим способом любила она грешника Кузьму: он и бивал ее, и на сторону хаживал, а что на колхозных насильных супостатов выходил с плотницким топором – грех за грех считать: он на германской войне расхрабрился. Бывало-живало: голубчика своего ворогом, погубителем рекла тетя Дюня, ловко уклонялась от хмельного натиска и напада. «Молода была – со грехом жила, теперь труха – все не без греха!» – туманилась, улыбчиво вспоминала, как сломя голову пошла за Кузю. Умела стаивать против угрозы отпором и отдачей: «Мужик – топор, баба – веретено». Обо всей этой бывальщине доложу в медленном последствии свече и бумаге. Сколько раз я при них «оканунилась», съединив ночи и дни последнего времени.
Пока я одолевала раняще невздольные, невзгодные предгородья Вологды и прощалась со старословием, оно самовольно вернулось и вновь со мной поздоровалось:
Сему и онымъ днямъ
привѣтственную дань
вновь посылаетъ длань.
Прости, любимый Даль.
Для ласки не совравъ
надбровiю тавра,
отвѣтствовалъ Словарь:
– Я не люблю тебя.
Нелестенъ фимiамъ
невѣрного Фомы.
Аз по грѣхамъ воздамъ:
не тронь моей «фиты».
Измучивъ «ять» и «ерѣ»
разгульною рукой,
ты «ижицы» моей
тревожишь «упакой».
Мнѣ внятна молвь свѣчи:
– Тщемудрiя труда
на-нѣтъ меня свели.
Я не люблю тебя.
Гашу укорный свѣтъ,
моей свѣчи ответъ.
Мнѣ бы свѣчу воспѣть —
а близокъ срокъ: отпѣть.
Смотрю со сцены въ залъ:
я – путникъ, онъ – тайга.
Безмолвилъ, да сказалъ:
– Я не люблю тебя.
С начинкой заковыкъ
нелакомый языкъ
мой разумъ затемнилъ.
Будь, где была, изыдь.
Я не кормлю всеядь,
и «ять» моя – темна.
Все мнѣ вольны сказать:
– Я не люблю тебя.
Любить позвольте васъ
въ моемъ свѣчномъ углу.
Словъ неразъемна власть:
«люблю» и «не люблю».
Ихъ втунѣ не свяжу,
я вѣрю во звѣзду:
полунощи свѣчу
усердно возожгу.
Мужъ подошелъ ко мнѣ,
провѣдалъ мой насѣстъ.
Зачеркиваю «не» —
оставлю то, что есть.
Есть то, что насъ свело:
безмолвiе любви.
Во здравiе твое —
свѣча и с точкой i…
Мирволь и многоточь,
февральскiй первый день,
вѣрней – покамѣстъ – ночь:
школяръ и буквоѣдъ.
Есть прозвище: «Ѳита» —
моимъ ночамъ-утрамъ.
До «ижицы» видна
свѣча – стола упархъ.
Не дамъ ей догорѣть.
Чиркъ спичкой – и с «аза»
глядятъ на то, что есть,
всенощные глаза…
Державинскихъ управъ
витаютъ «Снигири».
Глаза – от зла утратъ —
сухи, горьки, голы.
Иной свѣчи упархъ
достигъ поры-горы.
«Неистов и упрям,
гори, огонь, гори…»
* * *
Прощай, прощай, моя свеча!
Красна, сильна, прочна,
как много ты ночей сочла
и помыслов прочла.
Всю ночь на языке одном
с тобою говорим.
Согласны бодрый твой огонь
и бойкий кофеин.
Светлей ѲЕУРГИИ твои
кофейного труда.
Витийствуя, красы твори
до близкого утра.
Войди в далекий ежедень,
твой свет – не мимолет.
Сама – содеянный шедевр,
сама – Пигмалион.
Скажу, язычный ѲЕОГЕН,
что Афродиты власть
изделием твоих огней
воочию сбылась.
Служа недремлющим постам,
свеча, мы устоим,
застыл и мрамором предстал
истекший стеарин.
Вблизи лампадного тепла
гублю твое тепло.
Мне должно погасить тебя —
во житие твое.
Иначе изваянья смысл
падет, не устоит.
Он будет сам собою смыт
и станет сном страниц.
Мои слова до дел дошли:
я видеть не хочу
конец свечи, исход души —
я погашу свечу.
Безогненную жизнь влача,
продлится тайный свет.
Уединенная свеча
переживет мой век.
Лишь верный стол умеет знать,
как чуден мой пример:
мне не светло без буквы «ять»,
и слог не впрок без «ерь».
Чтоб воскурила ѲИМIАМЪ
свече – прошу «Ѳиту».
Я догореть свече не дам,
я упасу свечу.
Коль стол мой – град, свеча – VПАТѣ —
все к «ижице» сведу,
не жалко ей в строку упасть…
Задула я СВѣЧУ.
Я не раз от души заманивала тетю Дюню к нам зимовать, да обе мы понимали, что не гостить ей у нас так хорошо, как нам у нее. Лишь однажды, еще в бодрые горькие годы, кратким тяжелым проездом в плохое, «наказанное», место, отбываемое дочерью, краем глаза увидела и навсегда испугалась она Москвы, ее громадной и враждебной сутолочи.