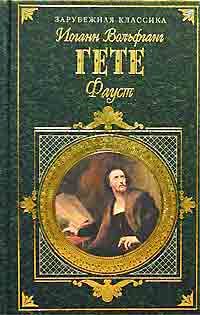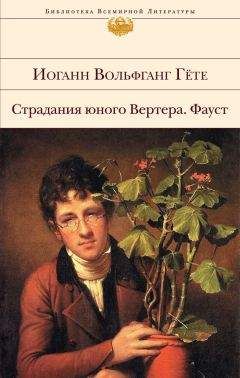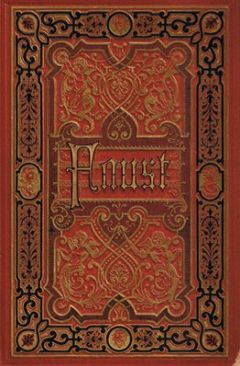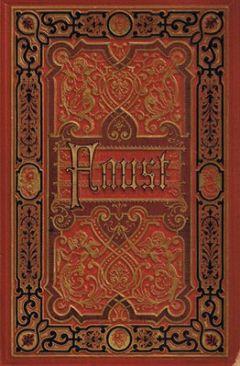Язык поповский. — По первоначальному замыслу, Фауст должен был после смерти Эвфориона преследовать попов и монахов. Этот мотив остался неразвитым; в четвертом акте сохранилось только несколько намеков на эту тему.
Иных фельдмаршалов-растяп / Спасает генеральный штаб. — Гёте здесь, по-видимому, вспоминает бездарного фельдмаршала герцога Брауншвейгского, стоявшего во главе войск реакционной европейской коалиции, двинутых против революционной Франции. Позднее герцог был разбит Наполеоном под Иеной.
Нет. Я, как Петер Сквенц, в отряд / Из массы выбрал концентрат. — Петер Сквенц, собственно Петер Квенц (имя искажено немецкими комедиантами, игравшими Шекспира еще в XVI веке)- режиссер, который силами афинских любителей-ремесленников ставит во дворце Тезея трагедию «Пирам и Тисба», — этим веселым фарсом Шекспир, как известно, кончает «Сон в летнюю ночь». — Ремарка: Входят трое сильных. — Это название Гёте заимствовал из библейской «Книги царств» (II, XXIII, 8-12), где перечисляются имена славных бойцов в войске Давидовом, вступившем в бой с филистимлянами. — Мечтает малое дитя / Теперь о рыцарском уборе, — Намек на пристрастие реакционных романтиков к средневековью и эмблемам феодального строя.
На переднем горном отроге
А вспыхнет у соседа дом, / Не скажешь: «Наша хата с краю». — Парафраза из «Посланий» Горация: «Дело коснулось тебя, коль пылает стена у соседа» (перевод Ф. Петровского).
Рапирою я обруч протыкал... — Игра в обруч — одна из рыцарских забав; состоит в том, что всадник старается на всем скаку пронзить мечом подвешенный обруч.
Нурсийский некромант, Сабинский маг / Тебе шлет преданности изъявленья. — Некромант — маг, общающийся с душами умерших; Нурчиа (древняя Нурсиа) — заколдованная гора в Италии, упоминающаяся в сказании о Тангейзере; в своих мемуарах (мемуары эти были переведены Гёте» знаменитый итальянский художник-ювелир Челдини рассказывает, что один католический священник, занимавшийся некромантией, указал ему на Нурчиу, как на место, наиболее пригодное для заклинания душ умерших.
Мы тоже силы к этому приложим, — / Чтоб стал его затылок нам подножьем. — Ср. псалом CIX, I; — Доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих».
Когда бывало море хмуро, / Ниспосылали Диоскуры / Такой же свет на корабли... — Созвездие Диоскуров, по поверью древних эллинов, благоприятствовало мореплавателям.
Орел парит на небосклоне, / Гриф бросился за ним в погоню. — Орел и гриф — геральдические звери со щитов императора и «враждебного императора».
Мои два ворона, глядите, / Сейчас расскажут ход событий. — Немецкая народная сказка наделяет черта двумя вещими воронами — атрибутом, заимствованным у древнегерманского бога Вотана.
Шатер враждебного императора
Я долю уделить хочу вам четырем / В распоряженье царством, домом и двором. — Имеется в виду учреждение наследственных верховных придворных должностей в «Золотой булле» Карла IV. Эти верховные наследственные должности были распределены между четырьмя виднейшими духовными и светскими князьями империи.
Тебе же выберу бокал ценней и краше — / Венецианского прозрачного стекла... — Венецианское стекло, по средневековому поверью, предохраняет от опьянения и имеет свойство обнаруживать яд, подмешанный к питью.
Пятый акт был окончен Гёте в 1830 году. Однако ряд сцен, по утверждению Гёте, был им в основном написан в 1798-1800 годах. Какие именно сцены имел в виду Гёте, осталось невыясненным.
Филемон и Бавкида — имена мифологической древнегреческой патриархальной четы престарелых крестьян, живших и трудившихся в неизменной любви и дружбе. За радушный прием, оказанный посетившим их под видом странников Зевсу и Гермесу, они были вознаграждены этими богами долголетием и одновременной смертью; их бедная хижина была обращена в храм, при котором они проживали в качестве жреца и жрицы. Только их одних пощадил Зевс из всего многогрешного населения Фригии, на которое он обрушил воды потопа. После смерти Филемон и Бавкида были обращены в дуб и липу. Глубоко прочувствованный пересказ мифа об этих стариках содержится в «Метаморфозах» Овидия. В память прославленной четы Гёте назвал их именами героев своей лирической увертюры к заключительному, действию «Фауста». (Гёте в беседе с Эккерманом от 6 июня 1831 года: «Мои Филемон и Бавкида не имеют ничего общего с знаменитой четой древности и со связанным с ней сказанием. Я дал моей парочке эти имена только для того, чтобы ярче подчеркнуть характеры. Это сходные личности и сходные отношения, а потому тут уместны и сходные имена»). Здесь, стало быть, Гёте поступил так же, как и в случае с Линкеем в третьем акте второй части «Фауста».
Странник, монологом которого открывается эта сцена, — не Зевс и не Гермес, а «простой смертный», некогда спасенный Филемоном и воспользовавшийся гостеприимством престарелых супругов.
В первой ремарке: Фауст, сильно состарившийся, прогуливается по саду. — Гёте в беседе с Эккерманом от 6 июня 1831 года: «Фауст, представленный в пятом акте, должен, по моему убеждению, насчитывать ровно сто лет. И я не знаю, не следует ли мне об этом где-нибудь высказаться точнее». Упоминание о глубокой старости дает основание думать, что чары, сообщившие ему молодость (см. «Фауст», часть первая, «Кухня ведьмы»), к этому времени утратили свою силу; однако это нигде не сказано. Впрочем, такой «логически неоправданный» драматургический прием был бы совершенно в духе Гётевской эстетики. Ср. с беседой с Эккерманом от 18 апреля 1827 года: «Возьмем хотя бы Макбета. Когда леди хочет вдохновить своего супруга на дело, она говорит, что «детей вскормила грудью». Правда ли это, или нет, неважно, но леди это сказала и должна была сказать, чтобы придать особый вес своей речи. Однако в дальнейшем ходе пьесы Макдуф, узнав о гибели своих близких, кричит в дикой злобе: «Он-то (Макбет) сам бездетен!» Эти слова Макдуфа противоречат, как видите, словам леди; но Шекспиру нет до этого дела... Ему важно быть наиболее действенным и значительным в каждую данную минуту». Совершенно так же и Гёте должен был сделать Фауста старцем накануне его смерти, чтобы дать ему возможность вторично обрести вечную молодость в безгрешных объятиях «одной из кающихся, прежде называвшейся Гретхен».
Так отдал в дни, еще древней, / Свой виноградник Навуфей. — В библии («Книга царств», III, 21) повествуется, что царю Агаву казалось, будто он ничем не обладает, покуда Навуфей еще владеет своим виноградником, расположенным вблизи от царского дворца; напрасно царь старался обменять его на лучший виноградник или купить его за сребреники. Тогда жена Агава, царица Иезавель, ложно обвинила Навуфея в хуле на бога и царя и добилась, чтобы его побили каменьями, а виноградник передали царю. Агав (подобно Фаусту) узнал об этом только после того, как несправедливое дело уже совершилось.
Сцена продолжает предшествующую (Глубокая ночь); это, собственно, только выделенный заглавием эпизод названной сцены.
Я шел всю жизнь беспечно напролом / И удовлетворял свои желанья... — Речь Фауста, начинающаяся этим стихом, заставляет вспомнить знаменитый его монолог из первой части трагедии, которым она открывается. Но теперь неудержимое стремление к познанию и совершенствованию перенесено из сферы абстрактного, умственного созерцания в сферу познания, неразрывно связанного с практикой: Фауст, действительно ранее живший «с размахом, с широтой», теперь хочет жить «скромней и бережливей». «Стой на своих ногах, будь даровит, — говорит он, — Брось вечность утверждать за облаками! Нам здешний мир так много говорит! Что надо знать, то можно взять руками».
Живет слепорожденным человек, / А ты пред смертью потеряешь зренье. (Дует ему в глаза и исчезает.) — По средневековому поверью, люди слепнут от дыханья ведьм, колдуний, русалок.
Большой двор перед дворцом
Лемуры, по римскому поверью (в отличие от мирных ларов), — дикие и беспокойные замогильные призраки, иначе называвшиеся «манами»; здесь они — мелкая нечисть. Смысловое истолкование образа лемуров дано в предисловии.
Болото тянется вдоль гор... — Истолкование этого предсмертного монолога Фауста дано в предисловии.
Гёте в беседе с Эккерманом от 6 июня 1831 года говорит по поводу церковной символики в этой и в следующей, заключительной, сценах: «Вы должны согласиться, что конец, когда спасенная душа поднимается ввысь, очень трудно изобразить; мы имеем здесь дело с такими сверхчувственными, едва чаемыми вещами, что я легко мог бы расплыться в неопределенности, если бы мой поэтический замысел не получил благодетельно-ограниченной формы и твердости в резко очерченных образах и представлениях христианской церкви».