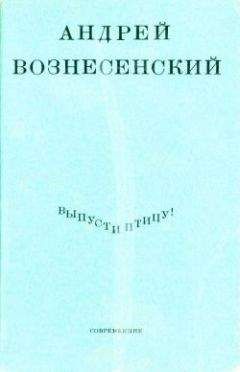Э. Межелайтису
Жизнь моя кочевая
стала моей планидой…
Птицы кричат над Нидой.
Станция кольцевания.
Стонет в сетях капроновых,
в облаке пуха, крика
крыльями трёхметровыми
узкая журавлиха!
Вспыхивает разгневанной
пленницею, царевной,
чуткою и жемчужной,
дышащею кольчужкой.
К ней подбегут биологи!
«Цаце надеть брелоки!»
Бережно, не калеча,
цап – и вонзят колечко.
Вот она в небе плещется,
послеоперационная,
вольная, то есть пленная,
целая, но кольцованная,
над анкарами, плевнами,
лунатиками в кальсонах —
вольная, то есть пленная,
чистая – окольцованная,
жалуется над безднами
участь её двойная:
на небесах – земная,
а на земле – небесная,
над пацанами, ратушами,
над циферблатом Цюриха,
если, конечно, раньше
пуля не раскольцует,
как бы ты не металась,
впилась браслетка змейкой,
привкус того металла
песни твои изменит.
С неразличимой нитью,
будто бы змей ребячий
будешь кричать над Нидой,
пристальной и рыбачьей.
1963* * *
Шарф мой, Париж мой,
серебряный с вишней,
ну, натворивший!
Шарф мой – Сена волосяная,
как ворсисто огней сиянье,
шарф мой Булонский, туман мой мохнатый,
фары шофёров дуют в Монако!
Что ты пронзительно шепчешь, горячий,
шарф, как транзистор, шкалою горящий?
Шарф мой, Париж мой непоправимый,
с шалой кровинкой?
Та продавщица была сероглаза,
как примеряла она первоклассно,
лаковым пальчиком с отсветом улиц
нежно артерии сонной коснулась…
В электрическом шарфе хожу,
душный город на шее ношу.
1963МАРШЕ О ПЮС. ПАРИЖСКАЯ ТОЛКУЧКА ДРЕBНОСТЕЙ
1Продай меня, Марше О Пюс,
упьюсь
этой грустной барахолкой,
смесью блюза с баркаролой,
самоваров, люстр, свечей,
воет зоопарк вещей
по умчавшимся векам —
как слонихи по лесам!..
Перстни, красные от ржави,
чьи вы перси отражали?
Как скорлупка, сброшен панцирь,
чей картуш?
Вещи – отпечатки пальцев,
вещи – отпечатки душ,
черепки лепных мустангов,
храм хламья, Марше О Пюс,
мусор, музыкою ставший!
моя лучшая из муз!
Расшатавшийся диван,
куда девах своих девал?
Почём века в часах песочных?
Чья замша стёрлась от пощёчин?
Продай меня, Марше О Пюс,
архаичным становлюсь:
устарел, как Робот-6,
когда Робот-8 есть.
Печаль моя, Марше О Пюс,
как плющ,
вьётся плесень по кирасам,
гвоздь сквозь плюш повылезал —
как в скульптурной у Пикассо —
железяк,
железяк!
Помню, он, в штанах расшитых,
вещи связывал в века,
глаз вращался, как подшипник,
у виска,
у виска!
(Он – испанец, весь как рана,
к нему раз пришли от Франко,
он сказал: «Портрет? Могу!
Пусть пришлёт свою башку»!)
Я читал ему, подрагивая,
эхо ухает,
как хор,
персонажи из подрамников
вылазят в коридор,
век пещерный, век атомный,
душ разрезы анатомные,
вертикальны и косы,
как песочные часы,
снег заносит апельсины,
пляж, фигурки на горах,
мы – песчинки,
мы печальны, как песчинки,
в этих дьявольских часах…
Марше О Пюс, Марше О Пюс,
никого не дозовусь.
Пустынны вещи и страшны,
как после атомной войны.
Я вещь твоя, XX век,
пусть скоро скажут мне: «Вы ветх»,
архангел из болтов и гаек
мне нежно гаркнет: «Вы архаик»,
тогда, О Пюс, к себе пусти меня,
приткнусь немодным пиджачком…
Я архаичен, как в пустыне
раскопанный ракетодром.
1963МОНОЛОГ МЭРИЛИН МОНРО
Я Мэрилин, Мэрилин.
Я героиня
самоубийства и героина.
Кому горят мои георгины?
С кем телефоны заговорили?
Кто в костюмерной скрипит лосиной?
Невыносимо,
невыносимо, что не влюбиться,
невыносимо без рощ осиновых,
невыносимо самоубийство,
но жить гораздо
невыносимей!
Продажи. Рожи. Шеф ржёт, как мерин
(я помню Мэрилин.
Её глядели автомобили.
На стометровом киноэкране
в библейском небе,
меж звёзд обильных,
над степью с крохотными рекламами
дышала Мэрилин,
её любили…
Изнемогают, хотят машины.
Невыносимо),
невыносимо
лицом в сиденьях, пропахших псиной!
Невыносимо,
когда насильно,
а добровольно – невыносимей!
Невыносимо прожить, не думая,
невыносимее – углубиться.
Где наша вера? Нас будто сдунули,
существованье – самоубийство,
самоубийство – бороться с дрянью,
самоубийство – мириться с ними,
невыносимо, когда бездарен,
когда талантлив – невыносимей,
мы убиваем себя карьерой,
деньгами, девками загорелыми,
ведь нам, актёрам,
жить не с потомками,
а режиссёры – одни подонки,
мы наших милых в объятьях душим,
но отпечатываются подушки
на юных лицах, как след от шины,
невыносимо,
ах, мамы, мамы, зачем рождают?
Ведь знала мама – меня раздавят,
о, кинозвёздное оледененье,
нам невозможно уединенье —
в метро,
в троллейбусе,
в магазине
«Приветик, вот вы!» – глядят разини,
невыносимо, когда раздеты
во всех афишах, во всех газетах,
забыв,
что сердце есть посерёдке,
в тебя завёртывают селёдки,
лицо измято,
глаза разорваны
(как страшно вспомнить во «Франс-Обзёрвере»
свой снимок с мордой самоуверенной
на обороте у мёртвой Мэрилин!).
Орёт продюсер, пирог уписывая:
«Вы просто дуся,
ваш лоб – как бисерный!»
А вам известно, чем пахнет бисер?!
Самоубийством!
Самоубийцы – мотоциклисты,
самоубийцы спешат упиться,
от вспышек блицев бледны министры —
самоубийцы,
самоубийцы,
идёт всемирная Хиросима,
невыносимо,
невыносимо всё ждать, чтоб грянуло,
а главное —
необъяснимо невыносимо,
ну, просто руки разят бензином!
Невыносимо горят на синем
твои прощальные апельсины…
Я баба слабая. Я разве слажу?
Уж лучше – сразу!
1963* * *
Ты с тёткой живёшь. Она учит канцоны.
Чихает и носит мужские кальсоны.
Как мы ненавидим проклятую ведьму!..
Мы дружим с овином, как с добрым медведем.
Он греет нас, будто ладошки запазухой.
И пасекой пахнет.
А в Суздале – Пасха!
А в Суздале сутолока, смех, вороньё,
ты в щёки мне шепчешь про детство твоё.
То сельское детство, где солнце и кони
и соты сияют, как будто иконы.
Тот отблеск медовый на косах твоих…
В России живу – меж снегов и святых!
1963BЕЛОСИПЕДЫ
В. Бокову
Лежат велосипеды
в лесу, в росе.
В берёзовых просветах
блестит шоссе.
Попадали, припали
крылом к крылу,
педалями – в педали,
рулём – к рулю.
Да разве их разбудишь —
ну хоть убей! —
оцепенелых чудищ
в витках цепей.
Большие, изумлённые,
глядят с земли.
Над ними – мгла зелёная,
смола, шмели.
В шумящем изобилии
ромашек, мят
лежат. О них забыли.
И спят, и спят.
1963НОЧЬ
Сколько звёзд!
Как микробов
в воздухе…
1963ОХОТА НА ЗАЙЦА
Ю. Казакову
Травят зайца. Несутся суки.
Травля! Травля! Сквозь лай и гам.
И оранжевые кожухи
апельсинами по снегам.
Травим зайца. Опохмелившись,
я, завгар, лейтенант милиции,
лица в валенках, в хроме лица,
зять Букашкина с пацаном —
«Газик», чудо индустриализации,
наворачивает цепя.
Трали-вали! Мы травим зайца.
Только, может, травим себя?
Юрка, как ты сейчас в Гренландии?
Юрка, в этом что-то неладное,
если в ужасе по снегам
скачет крови
живой стакан!
Страсть к убийству, как страсть к зачатию,
ослеплённая и извечная,
она нынче вопит: зайчатины!
Завтра взвоет о человечине…
Он лежал посреди страны,
он лежал, трепыхаясь слева,
словно серое сердце леса,
тишины.
Он лежал, синеву боков
он вздымал, он дышал пока ещё,
как мучительный глаз,
моргающий,
на печальной щеке снегов.
Но внезапно, взметнувшись свечкой,
он возник,
и над лесом, над чёрной речкой
резанул
человечий
крик!
Звук был пронзительным и чистым, как
ультразвук
или как крик ребёнка.
Я знал, что зайцы стонут. Но чтобы так?!
Это была нота жизни. Так кричат роженицы.
Так кричат перелески голые
и немые досель кусты,
так нам смерть прорезает голос
неизведанной чистоты.
Той природе, молчально-чудной,
роща, озеро ли, бревно —
им позволено слушать, чувствовать,
только голоса не дано.
Так кричат в последний и в первый.
Это жизнь, удаляясь, пела,
вылетая, как из силка,
в небосклоны и облака.
Это длилось мгновение, мы окаменели,
как в остановившемся кинокадре.
Сапог бегущего завгара так и не коснулся земли.
Четыре чёрные дробинки, не долетев,
вонзились в воздух.
Он взглянул на нас. И – или это нам показалось —
над горизонтальными мышцами бегуна, над
запёкшимися шерстинками шеи блеснуло лицо.
Глаза были раскосы и широко расставлены,
как на фресках Феофана.
Он взглянул изумлённо и разгневанно.
Он парил. Как бы слился с криком.
Он повис…
С искажённым и светлым ликом,
как у ангелов и певиц.
Длинноногий лесной архангел…
Плыл туман золотой к лесам.
«Охмуряет», – стрелявший схаркнул.
И беззвучно плакал пацан.
Возвращались в ночную пору.
Ветер рожу драл, как наждак.
Как багровые светофоры,
наши лица неслись во мрак.
1963ПОЭТ B ПАРИЖЕ
Уличному художнику