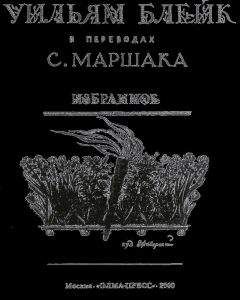Длинный Джон Браун и малютка Мэри Бэлл
Была в орехе фея у крошки Мэри Бэлл,
A y верзилы Джона в печенках черт сидел.
Любил малютку Мэри верзила больше всех,
И заманила фея дьявола в орех.
Вот выпрыгнула фея и спряталась в орех.
Смеясь, она сказала: «Любовь — великий грех!»
Обиделся на фею в нее влюбленный бес,
И вот к верзиле Джону в похлебку он залез.
Попал к нему в печенки и начал портить кровь.
Верзила ест за семерых, чтобы прогнать любовь,
Но тает он, как свечка, худеет с каждым днем
С тех пор, как поселился голодный дьявол в нем.
— Должно быть, — люди говорят, — в него забрался волк! —
Другие дьявола винят, и в этом есть свой толк.
А фея пляшет и поет — так дьявол ей смешон.
И доплясалась до того, что умер длинный Джон.
Тогда плясунья-фея покинула орех.
С тех пор малютка Мэри не ведает утех.
Ее пустым орехом сам дьявол завладел.
И вот с протухшей скорлупой осталась Мэри Бэлл.
Мой ангел, наклонясь над колыбелью,
Сказал: «Живи на свете, существо,
Исполненное радости, веселья,
Но помощи не жди ни от кого».
Всю жизнь любовью пламенной сгорая,
Мечтал я в ад попасть, чтоб отдохнуть от рая.
От дьявола и от царей земных
Мы получаем знатность и богатство.
И небеса благодарить за них,
По моему сужденью, — святотатство.
На перси Хлои бросил взор крылатый мальчуган,
Но, встретив Зою, он глядит украдкой на карман.
Я встал, когда редела ночь.
— Поди ты прочь! Поди ты прочь!
О чем ты молишься, поклоны
Кладя пред капищем Мамоны?
Я был немало удивлен.
Я думал, — это Божий трон.
Всего хватает мне, но мало
В кармане звонкого металла.
Есть у меня богатство дум,
Восторги духа, здравый ум,
Жена любимая со мною.
Но беден я казной земною.
Я перед Богом день и ночь.
С меня оп глаз не сводит прочь.
Но дьявол тоже неотлучен:
Мой кошелек ему поручен.
Он мой невольный казначей.
Я ел бы пищу богачей,
Когда бы стал ему молиться.
Я не хочу, а дьявол злится.
Итак, не быть мне богачом.
К чему ж молиться и о чем?
Желаний у меня немного,
И за других молю я Бога.
Пускай дает мне злобный черт
Одежды, пищи худший сорт, —
Мне и в нужде живется славно…
А все же, черт, служи исправно!
Что оратору нужно? Хороший язык?
— Нет, — ответил оратор. — Хороший парик!
— А еще? — Не смутился почтенный старик
И ответил: — Опять же хороший парик.
— А еще? — Он задумался только на миг
И воскликнул: — Конечно, хороший парик!
— Что, маэстро, важнее всего в портретисте?
— Он ответил: — Особые качества кисти.
— А еще? — Он, палитру старательно чистя,
Повторил: — Разумеется, качество кисти.
— А еще? — Становясь понемногу речистей,
Он воскликнул: — Высокое качество кисти!
Врагов прощает он, но в том беда,
Что не прощал он друга никогда.
Ты мне нанес, как друг, удар коварный сзади,
Ах, будь моим врагом, хоть дружбы ради!
Пусть обо мне ты распускаешь ложь,
Я над тобою не глумлюсь тайком.
Пусть сумасшедшим ты меня зовешь,
Тебя зову я только дураком.
Я погребен у городской канавы водосточной,
Чтоб слезы лить могли друзья и днем и еженочно.
Известно ль орлу, что таится в земле?
Или крот вам скажет о том?
Как мудрость в серебряном спрятать жезле,
А любовь — в ковше золотом?
I
В долине дщери Серафимов пасли своих овец.
Но Тэль, их младшая сестра, блуждала одиноко,
Готова с первым дуновеньем исчезнуть навсегда.
Вдоль по течению Адоны несется скорбный ропот,
И льются тихие стенанья, как падает роса.
— О ты, бегущая вода! Зачем твой лотос вянет?
Твоих детей печален жребий: мгновенный смех
и смерть.
Ах, Тэль — как радуга весны, как облако в лазури,
Как образ в зеркале, как тени, что бродят по воде,
Как мимолетный детский сон, как резвый смех
ребенка,
Как голос голубя лесного, как музыка вдали.
Скорей бы голову склонить, забыться безмятежно
И тихо спать последним сном и слышать тихий голос
Того, кто по саду проходит вечернею порой.
Невинный ландыш, чуть заметный среди
смиренных трав,
Прекрасной девушке ответил: — Я — тонкий стебелек,
Живу я в низменных долинах; и так я слаб и мал,
Что мотылек присесть боится, порхая, на меня.
Но небо благостно ко мне, и тот, кто всех лелеет,
Ко мне приходит в ранний час и, осенив ладонью,
Мне шепчет: «Радуйся, цветок, о лилия-малютка,
О дева чистая долин и ручейков укромных.
Живи, одевшись в ткань лучей, питайся божьей
манной,
Пока у звонкого ключа от зноя не увянешь,
Чтоб расцвести в долинах вечных!» На что же
ропщет Тэль?
О чем вздыхает безутешно краса долины Гар?
Цветок умолк и притаился в росистом алтаре.
Тэль отвечала: — О малютка, о лилия долин,
Ты отдаешь себя усталым, беспомощным, немым,
Ты нежишь кроткого ягненка: молочный твой наряд
С восторгом лижет он и щиплет душистые цветы,
Меж тем как ты с улыбкой нежной глядишь ему
в глаза,
Сметая с мордочки невинной прилипший вредный
сор.
Твой сок прохладный очищает густой янтарный мед.
Дыша твоим благоуханьем, окрестная трава
Живит кормилицу-корову, смиряет пыл коня.
Но Тэль — как облако, случайно зажженное зарей.
Оно покинет трон жемчужный, и кто его найдет?
— Царица юная долин! — промолвил скромный
ландыш, —
Ты можешь облако спросить, плывущее над нами,
Зачем на утренней заре горит оно и блещет,
Огни и краски рассыпая по влажной синеве.
Слети к нам, облако, помедли перед глазами Тэль!
Спустилось облако, а ландыш, головку наклонив,
Опять ушел к своим бессчетным заботам и делам.
— Скажи мне, облако, — спросила задумчивая Тэль, —
Как ты не ропщешь, не тоскуешь, живя один лишь час?
Но час пройдет, и больше в небе тебя мы не найдем.
И Тэль — как ты. Но Тэль тоскует, и нет ответа ей!
Главу златую обнаружив и выплыв на простор,
Сверкнуло облако, витая над головою Тэль.
— Ты знаешь, влагу золотую прохладных родников
Пьют наши кони там, где Лува меняет лошадей.
Ты смотришь с грустью и тревогой на молодость
мою,
Скорбя о том, что я растаю, исчезну без следа.
Но знай, о девушка: растаяв, я только перейду
К десятикратной новой жизни, к покою и любви.
К земле спускаясь невидимкой, я чашечек цветов
Касаюсь крыльями и фею пугливую — росу
Молю принять меня в прозрачный, сияющий шатер.
Рыдает трепетная дева, колени преклонив
Перед светилом восходящим. Но скоро мы встаем
Соединенной, неразлучной, ликующей четой,
Чтоб вместе странствовать и пищу вести цветам
полей.
— Неужто, облачко? Я вижу, различен наш удел:
Дышу я тоже ароматом цветов долины Гар,
Но не кормлю цветов душистых. Я слышу щебет птиц,
Но не питаю малых пташек. Они свой корм в полях
Находят сами. Я исчезну, и скажут обо мне:
Без пользы век свой прожила сияющая дева,
Или жила, чтоб стать добычей прожорливых червей?..
С престола облако склонилось и отвечало Тэль:
— Коль суждено тебе, о дева, стать пищей для червей,
Как велико твое значенье, как чуден твой удел.
Бее то, что дышит в этом мире, живет не для себя.
Не бойся, если из могилы червя я позову.
Явись к задумчивой царице, смиренный сын Земли!
Могильный червь приполз мгновенно и лег на
влажный лист,
И скрылось облако в погоне за спутницей своей.
III
Бессильный червь лежал, свернувшись, на маленьком
листке.
— Ах, кто ты, слабое созданье? Ты — червь? И только
червь?
Передо мной лежит младенец, завернутый в листок.
Не плачь, о слабый голосок! Ты говорить не можешь
И только плачешь без конца. Никто тебя не слышит,
Никто любовью не согреет озябшее дитя!..
Но глыба влажная земли малютку услыхала,
Склонилась ласково над ним и все живые соки,
Как мать младенцу, отдала. И, накормив питомца,
Смиренный взгляд спокойных глаз на деву устремила.
— Краса долин! Мы все на свете живем же для себя.
Меня ты видишь? Я ничтожна, ничтожней в мире всех,
Я лишена тепла и света, темна и холодна.
Но тот, кто любит всех смиренных, льет на меня елей,
Меня целует, и одежды мне брачные дает,
И говорит: «Тебя избрал я, о мать моих детей,
И дал тебе венец нетленный, любви моей залог!»
Но что, о дева, это значит, понять я не могу.
Я только знаю, что дано мне жить и, живя, любить.
Тэль осушила легкой тканью потоки светлых слез
И тихо молвила: — Отныне не стану я роптать.
Я знала: друг всего живого не может не жалеть
Червя ничтожного и строго накажет за него
Того, кто с умыслом раздавит беспомощную тварь.
Но я не знала, что елеем и чистым молоком
Червя он кормит, и напрасно роптала на него,
Страшась сойти в сырую землю, покинуть светлый мир.
— Послушай, девушка, — сказала приветливо земля, —
Давно твои я слышу вздохи, все жалобы твои
Неслись над кровлею моею, — я привлекла их вниз.
Ты хочешь дом мой посетить? Тебе дано спуститься
И выйти вновь на свет дневной. Перешагни без
страха
Своею девственной ногою запретный мой порог!
IV
Угрюмый сторож вечных врат засов железный поднял,
И Тэль, сойдя, узнала тайны невиданной страны,
Узрела ложа мертвецов, подземные глубины,
Где нити всех земных сердец гнездятся, извиваясь, —
Страну печали, где улыбка не светит никогда.
Она бродила в царстве туч, по сумрачным долинам,
Внимая жалобам глухим, и часто отдыхала
Вблизи неведомых могил, прислушиваясь к стонам
Из глубины сырой земли… Так, медленно блуждая,
К своей могиле подошла и тихо там присела,
И услыхала скорбный гул пустой, глубокой ямы:
— Зачем всегда открыто ухо для роковых вестей,
А глаз блестящий — для улыбки, таящей сладкий яд?
Зачем безжалостное веко полно жестоких стрел,
Скрывая воинов бессчетных в засаде, или глаз,
Струящий милости и ласки, червонцы и плоды?
Зачем язык медовой пылью ласкают ветерки?
Зачем в круговорот свой ухо втянуть стремится мир?
Зачем вдыхают ноздри ужас, раскрывшись и дрожа?
Зачем горящий отрок связан столь нежною уздой?
Зачем завеса тонкой плоти над логовом страстей?..
Тэль с криком ринулась оттуда — и в сумраке, никем
Не остановлена, достигла долин цветущих Гар.