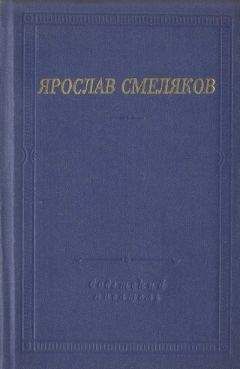384. ВЫПАЛ БЕЛЫЙ СНЕГ
Поздно вечером я возвращался с работы,
и мне было так хорошо, так легко, моя любимая!
Это выпал первый белый снег.
Когда я шел на работу, деревья голыми были,
а теперь они стоят, как модницы, в серебряных серьгах.
И провода, осев под тяжестью снега,
превратились в чудесные длинные ожерелья.
С крыш падали звучащие капли,
напомнившие мне шустрых воробьев.
Маленький город стал белым и просторным.
Небо подарило мне белую косулю — зимнюю ночь любви и спокойствия.
Когда я поздно вечером возвращался с работы,
навстречу мне шел мужчина, широко распахнув
тяжелое пальто,
веселехонький, как мой брат,
когда жена родила ему сынишку.
Когда я поздно вечером возвращался с работы,
я увидел влюбленных.
Он пригнул лапчатую снежную ветвь
и бережно стряхнул чистый снег на непокрытые волосы
своей возлюбленной.
Она засмеялась,
и от этого смеха снег тотчас растаял.
Вот что происходило,
когда я поздно вечером возвращался с работы.
<1968>
385. ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА
Ресниц опустивши стрелочки,
ступает по половицам
шестнадцатилетняя девочка
величественно, как царица.
Ведь в прошлое воскресенье
парнишка в клубике местном
встал перед ней с почтением
и уступил ей место.
Туфли обувши лучшие,
ходит — не улыбается…
Вот ведь какие случаи
в жизни подчас случаются!
<1959>
Не ради шутки в общем разговоре,
не для того, чтоб удивить семью,
хотел бы я на побережье моря
поставить типографию свою.
И, стоя в ней естественно и просто,
имея лишь духовный интерес,
я для набора брал бы только звезды —
светящиеся литеры небес.
Пусть эта книга пахнет не бумагой,
не клейстером невзрачной мастерской,
а только влагой, только синей влагой,
одною только влагою морской.
И вовсе нету никакой оплошки,
нет ничего от праздных небылиц
в том, что струится лунная дорожка
посередине всех моих страниц.
Обрадованный этакой манерой,
не убоясь недюжинных работ,
из валунов — подобно Гулливеру —
я сделал бы для книги переплет.
Всё соверша, измазавшись, как дети,
я сел бы там, доволен и устал…
И шумный ветер нашего столетья
мою бы книгу запросто листал.
<1962>
Тебе сегодня исполнилось тридцать лет,
юность всё дальше, а старость всё ближе, —
бедный больной еврейский поэт
перед витриною шляп в Париже.
На обтерханных брюках и пиджаке
столько нищенских дыр —
и рядом и врозь, —
что усталое тело и вдалеке
проглядывается насквозь.
За все эти дыры —
зачем скрывать? —
никто бы не дал тебе ни копейки,
но зато тебя можно бережно взять
и играть на тебе, как пастух на жалейке.
Но, может быть, настанет время
(оно грядет шагами большими),
когда все эти шляпы с лентами всеми
будут твоими.
Одну ты станешь носить, вставая,
в другой ты станешь болтать с друзьями,
а самая лучшая и дорогая
будет тебя венчать вечерами.
Если собака соседская злая,
та, что хромает на левую лапу,
опять на тебя по-дурацки залает,
скажи ей, чуть подняв вечернюю шляпу:
«Дорогая собака! За дерзость простите,
позвольте мне вам посоветовать лично:
такую же шляпу приобретите
и вы будете выглядеть так же прилично».
…На улице дождь начинается длинно,
и в струйках вечерних неверного света
все шляпы летят из клетки витрины
и садятся на ветви волос поэта.
<1966>
388. «Я мог бы нести на плече ребенка…»
Я мог бы нести на плече ребенка
и сам веселее в три раза стал,
когда б он смеялся легко и звонко
и что-то прекрасное лепетал.
Я столик несу на плече неслышно,
стихи по-еврейски шепча на ходу,
и ставлю его под апрельской вишней
в дачном пригородном саду.
И песню пишу о всех вас, дети,
не вытирая отцовских слез,
о всех, которых военный ветер
безжалостно вдаль от земли унес
<1966>
389. В ПРИБАЛТИЙСКОМ ГОРОДЕ
Перед самой войною,
одержим и устал,
у ворот твоих стоя,
я тебя целовал.
Я запомнил ночные
поцелуи твои,
фонари голубые —
наважденье любви.
Я с войны возвращаюсь
в сорок пятом году
и — хоть очень стараюсь —
тех ворот не найду.
Рассказали мне, Лия,
неохотно, с трудом,
что тебя застрелили
немцы в сорок втором.
Нахожу и теряю —
нет, опять не узнал —
где той ночью тебя я
у ворот целовал.
И кладу я впервые
в этот памятный год
васильки полевые
возле каждых ворот.
Вспоминаю в июле,—
сердце, тише тоскуй! —
предрассветную пулю
и ночной поцелуй.
<1966>
Однажды я на берегу устало
листок стихотворенья уронил,
и море — всё — еще синее стало
от синевы размывшихся чернил.
Я обратился к морю с нетерпеньем,
остановившись в шумной тишине:
«Отдай назад мое стихотворенье,
зачем оно великой глубине?!»
И мне в ответ, как в старой сказке,
вскоре заметно потемнела синева.
«Я музыку пишу, — сказало море,—
мальчишка глупый, на твои слова».
<1966>
Летним днем по пути к перевалу
я иду непоспешно вперед.
Солнце словно бы лижет устало
теплых листьев светящийся мед.
Там в долине, внизу, на рассвете
миновал я поля и сады.
Улыбаясь, румяные дети
мне тащили в ручонках плоды.
А старик, по обличию строгий,—
я ему чуть заметно кивнул, —
пожелал мне удачной дороги
и в уснувших хлебах утонул.
Позабыть ли шалаш лесорубов,
что меня от ненастья укрыл?
Я был счастлив меж ними сугубо,
я счастливым воистину был!
Эти люди мне вроде чужие,
словно камень, песок и трава,
но остались в душе, как живые,
их повадки, движенья, слова.
Перевал перейду терпеливо
и туда опущусь налегке,
где колышутся желтые нивы
и белеет село вдалеке.
У ручья полевого присяду…
Но в моей отрешенности тут
эти образы милые кряду —
одиночество скрасить — пройдут.
Помню я все свиданья и встречи
на неближней дороге своей.
Я тянусь к человеческой речи, —
не могу, не могу без людей.
Там, где двое на поле соседнем
о заботах своих говорят,
я — хоть издали — их собеседник,
им обоим приятель и брат.
<1970>