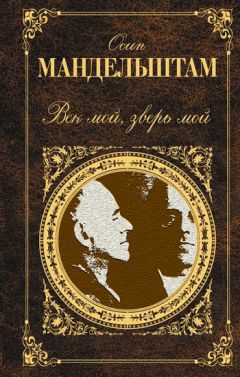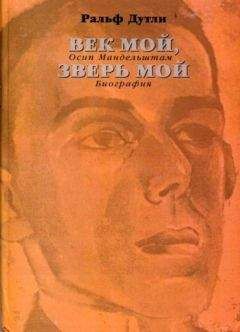Христианство стало в совершенно свободное отношение к искусству, чего ни до него, ни после него не сумела сделать никакая другая человеческая религия.
Питая искусство, отдавая ему свою плоть, предлагая ему в качестве незыблемой метафизической основы реальнейший факт искупления, христианство ничего не требовало взамен. Поэтому христианской культуре не грозит опасность внутреннего оскудения. Она неиссякаема, бесконечна, так как, торжествуя над временем, снова и снова сгущает благодать в великолепные тучи и проливает ее живительным дождем.
Нельзя с достаточной силой указать на то обстоятельство, что своим характером вечной свежести и неувядаемости европейская культура обязана милости христианства в отношении к искусству.
Еще не исследована область христианской динамики, деятельность духа в искусстве как свободное самоутверждение в основной стихии искупления, в частности, музыка.
В древнем мире музыка считалась разрушительной стихией. Эллины боялись флейты и фригийского лада, считая его опасным и соблазнительным, и каждую новую струну кифары Терпандру приходилось отвоевывать с великим трудом. Недоверчивое отношение к музыке как к подозрительной и темной стихии было настолько сильно, что государство взяло музыку под свою опеку, объявив ее своей монополией, а музыкальный лад – средством и образцом для поддержания политического порядка, гражданской гармонии – эвномии. Но и в таком виде эллины не решались предоставить музыке самостоятельность: слово казалось им необходимым, верным стражем, постоянным спутником музыки. Собственно чистой музыки эллины не знали – она всецело принадлежит христианству. Горное озеро христианской музыки отстоялось после глубокого переворота, превратившего Элладу в Европу.
Христианство музыки не боялось. С улыбкой говорит христианский мир Дионису: «Что ж, попробуй, вели разорвать меня своим менадам: я весь цельность, весь – личность, весь – спаянное единство!» До чего сильна в новой музыке эта уверенность в окончательном торжестве личности, цельной и невредимой: она – эта уверенность в личном спасении, сказал бы я, – входит в христианскую музыку обертоном, окрашивая звучность Бетховена в белый мажор синайской славы.
Голос – это личность. Фортепиано – это сирена. Разрыв Скрябина с голосом, его великое увлечение сиреной пианизма знаменует утрату христианского ощущения личности, музыкального «я есмь».
Бессловесный, странно немотствующий хор Прометея – все та же опасная, соблазнительная сирена.
Католическая радость Бетховена, синтез Девятой симфонии, сей «белой славы торжество» недоступно Скрябину. В этом смысле он оторвался от христианской музыки,
пошел своим собственным путем……………………………………………………
……………………………………………………
Дух греческой трагедии проснулся в музыке. Музыка совершила круг и вернулась туда, откуда она вышла: снова Федра кличет кормилицу, снова Антигона требует погребения и возлияний для милого братнего тела.
Что-то случилось с музыкой, какой-то ветер сломал с налету мусикийские камыши, сухие и звонкие. Мы требуем хора, нам наскучил ропот мыслящего тростника… Долго, долго мы играли музыкой, не подозревая опасности, которая в ней таится, – и пока – быть может, от скуки – мы придумывали миф, чтобы украсить свое существование, – музыка бросила нам миф – не выдуманный, а рожденный, пенорожденный, багрянорожденный, царского происхождения, законный наследник мифов древности – миф о забытом христианстве ……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…виноградников старого Диониса: мне представляются закрытые глаза и легкая, торжественная, маленькая голова – чуть опрокинутая кверху: это муза припоминания – легкая Мнемозина, старшая в хороводе. С легкого хрупкого лица спадает маска забвения – проясняются черты; торжествует память – пусть ценою смерти: умереть значит вспомнить, вспомнить значит умереть… Вспомнить во что бы то ни стало! Побороть забвение – хотя бы это стоило смерти: вот девиз Скрябина, вот героическое устремление его искусства! В этом смысле я сказал, что смерть Скрябина есть высший акт его творчества, что она проливает на него ослепительный и неожиданный свет. ……………………………………………………
……………………………………………………
…окончена – война в полном разгаре. Всякий, кто чувствует себя эллином, и ныне должен быть на страже – как две тысячи лет назад… Мир нельзя эллинизировать раз навсегда, как можно перекрасить дом… Христианский мир – организм, живое тело. Ткани нашего мира обновляются смертью. Приходится бороться с варварством новой жизни – потому что в ней, цветущей, не побеждена смерть! Покуда в мире существует смерть, эллинизм будет творческой силой, ибо христианство эллинизирует смерть… Эллинство, оплодотворенное смертью, и есть христианство. Семя смерти, упав на землю Эллады, чудесно расцвело: вся наша культура выросла из этого семени, мы ведем летоисчисление с того момента, как его приняла земля Эллады. Все римское бесплодно, потому что почва Рима камениста, потому что Рим – это Эллада, лишенная благодати.
Искусство Скрябина имеет самое прямое отношение к той исторической задаче христианства, которую я называю эллинизацией смерти, и через это получает глубокий религиозный смысл. ……………………………………………………
……………………………………………………
…есть музыка – содержит в себе атомы нашего бытия. Насколько мелос, в чистом виде, соответствует единственному чувству личности, как его знала Эллада, настолько гармония характерна для сложного послехристианского ощущения «я». Гармония была своего рода запретным плодом для мира, не причастного к грехопадению. Метафизическая сущность гармонии теснейшим образом связана с христианским пониманием времени. Гармония – кристаллизовавшаяся вечность, она вся в поперечном разрезе времени, который знает только христианство.
…мистики энергично отвергают вечность во времени, принимая этот поперечный разрез, доступный только праведным, утверждая вечность как сердцевину времени: христианская вечность – это кантовская категория, рассеченная мечом серафима. Центр тяжести скрябинской музыки лежит в гармонии: гармоническая архитектоника…
……………………………………………………
……………………………………………………
Отныне русская поэзия первой четверти двадцатого века во всей своей совокупности уже не воспринимается читателями как «модернизм» с присущей этому понятию двусмысленностью и полупрезрительностью, а просто как русская поэзия. Произошло то, что можно назвать сращением позвоночника двух поэтических систем, двух поэтических эпох.
Русский читатель, за четверть века испытавший не одну, а несколько поэтических революций, приучился более или менее сразу схватывать объективно-ценное в окружающем его многообразии поэтического творчества. Всякая новая литературная школа, будь то романтизм, символизм или футуризм, приходит как бы искусственно раздутой, преувеличивая свое исключительное значение, не сознавая своих внешних исторических границ. Она неизбежно проходит через период «бури и натиска». Только впоследствии, обычно уже тогда, когда главные представители школ теряют свежесть и работоспособность, выясняется их настоящее место в литературе и объективная ценность ими созданного. При этом после половодья «бури и натиска» литературное течение невольно сжимается до естественного русла, и запоминаются навсегда именно эти, несравненно более скромные, границы и очертания.
Русская поэзия первой четверти века переживала два раза резко выраженный период «бури и натиска». Один раз – символизм, другой раз – футуризм. Оба главные течения обнаружили желание застыть на гребне и в этом желании потерпели неудачу, так как история, подготовляя гребни новых волн, в назначенное время властно повелела им пойти на убыль, возвратиться в лоно общей материнской стихии языка и поэзии.
Однако поэтический подъем символизма и футуризма, дополняя друг друга исторически, были, по существу, совершенно разного порядка. «Бурю и натиск» символизма следует рассматривать как явление бурного и пламенного приобщения русской литературы к поэзии европейской и мировой. Таким образом, это бурное явление, по существу, имело внешнекультурный смысл. Ранний русский символизм был сильнейшим сквозняком с Запада.
Русский футуризм гораздо ближе к романтизму, – на нем все черты национального поэтического возрождения, причем разработка им национальной сокровищницы языка и глубокой, своей поэтической традиции опять-таки сближает его с романтизмом, в отличие от чужестранного русского символизма, бывшего «культуртрегером», переносителем поэтической культуры с одной почвы на другую. Соответственно этому существенному различию символизма и футуризма – первый дал образец внешнего, второй – внутреннего устремления.