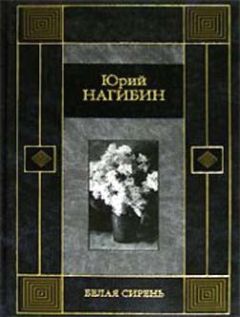Литературный сценарий[1]
От автора
К истории одной неудачи
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.
Б. Пастернак
Зачем писать о том, как я работал над сценарием, который не стал фильмом? Но ведь писать о работе над сценарием, который стал фильмом, пожалуй, еще бессмысленней. Все, что ты нашел во время работы, открыл, понял, воплощено в твоем сценарии, обретшем киножизнь, зачем же размахивать кулаками после драки? Однако сценаристы постоянно так делают, и никто не удивляется. Я и сам написал большой очерк о работе с Акирой Куросавой над сценарием фильма «Дерсу Узала», который с интересом был встречен читателями и не раз переиздавался. Ну, скажут, это Куросава! А здесь как-никак это Рахманинов, фигура не менее крупная, чем японский кинорежиссер. Полагаю, что куда крупнее, ибо до сих пор не уверен, что кино — искусство, уж больно коротка жизнь кинотворений, но это тема для другого разговора. А коли в процессе работы открылось что-то о великом русском композиторе, пианисте и дирижере, то об этом стоит поговорить именно потому, что экранного воплощения открытия и находки не получили. Когда додраться не дали, кулаки чешутся.
Строчки Б. Пастернака, вынесенные в эпиграф, подбадривают меня. И на пути к поражению ты мог, ведомо или неведомо для себя самого, найти нечто, что облегчит путь идущим за тобой следом.
К истории вопроса. О Рахманинове мною написаны два сценария. Первый был опубликован в «Октябре» (отрывки печатались в «Литературной газете» и «Огоньке») и моем сборнике «Река Гераклита» как повесть, хотя он не претендовал на столь высокий чин. Но наши литературные журналы и серьезные издательства не публикуют сценариев, считая это — совершенно несправедливо — второсортным товаром, к тому же опасаясь, что случись такой прецедент, и нахлынут сценаристы со своими низкопробными опусами. Тяжелое заблуждение: литературный сценарий такой же законный жанр, как пьеса, тоже ждущая своего воплощения, но на сцене, а ведь пьесы постоянно публикуются. Не надо печатать плохие сценарии, как не надо печатать плохие пьесы или плохую прозу. Нередко сценарий бывает лучше фильма. Сценарий «Вива, Вилья» Бена Хекта потрясает еще сильнее, чем одноименный фильм, несмотря на блистательную игру Уоллеса Бири. Но назвать даже этот выдающийся сценарий повестью или романом значило бы испортить впечатление. Альфред де Виньи сказал, что чтение толковых словарей увлекательнее романов Дюма. Но попробуйте назвать словарь романом, и вам сразу станет скучно. Жанр вовсе не условное понятие, он определяет то, чего мы вправе ждать от произведения. Сценарий — это кинопроза, а не художественная проза, он не может удовлетворять тем требованиям, какие мы предъявляем к роману или повести. Одна критикесса, писавшая о моем «Рахманинове» и уничтожившая его как повесть, в конце статьи запоздало усомнилась: уж не сценарий ли это? Что полагалось бы понять с первых же строк, ведь критикесса достаточно хорошо знала мою прозу. Такая слепота непростительна для профессионала. Подпись под рисунком, изображающим дворового пса: «Се лев, а не собака», может ввести в заблуждение ребенка, а не взрослого человека, тем паче искусствоведа. Последний может поинтересоваться, с какой целью назвали львом хорошо или плохо нарисованную дворняжку.
Проза в моем сценарии не ночевала, но сценарий был неплохой, его перевели на иностранные языки, знаменитый Бруно Фрейндлих превратил в пьесу, поставленную ленинградским Театром им. Пушкина к его семидесятилетию. Юбиляр по отзывам прессы — я спектакля не видел — прекрасно сыграл Рахманинова.
Таким образом, сценарий, не став фильмом, получил резонанс, даже можно сказать сильнее — литературную судьбу.
Почему же он не был поставлен, почему режиссер А. Кончаловский, «на которого» — чисто киношное выражение — я писал, отказался поставить его, и начался новый этап совместной работы над сценарием с тем же героем, но другим по концепции, форме и наполнению.
Первый сценарий можно назвать камерным, он не выходил за пределы личной судьбы Рахманинова, исторические события давались лишь в той мере, в какой они непосредственно затрагивали героя, и лишь через его восприятие. Второй сценарий, если не бояться высокопарных слов, можно назвать эпическим. Его рамки значительно расширились, исторический и социальный фон активизировался, потеснив кое-где самого героя. Мы шли на явные натяжки, вписывали Рахманинова в те подлинные жизненные обстоятельства, в которых он на самом деле не участвовал, неизвестно даже, как он к ним относился. Возможно, режиссеру хотелось пристальнее рассмотреть то бурное время, которое если и не затрагивало впрямую личную жизнь композитора, то определяло многое в его творчестве. Рахманинов не был нейтрален к эпохе, как, скажем, Метнер или Стравинский. Он был ближе к типу Шостаковича, чутко отзывавшегося на трагические события своего времени, будь то гитлеризм (или сталинизм — что в лоб, что по лбу), ленинградская блокада, Бабий Яр. Могучий творческий дух восставал не против отвлеченных апокалипсических кошмаров, а против вполне конкретных преступлений тоталитаризма и расизма. Нет никакого сомнения, что лучший и самый популярный романс Рахманинова «Вешние воды» порожден радостно-взволнованным предчувствием исторических перемен, трагические ноты более позднего времени — ужасом от этих перемен, а «Симфонические танцы» — вершина его творчества — сознанием неизбежности новой опустошительной войны.
Камерный стиль первого сценария был результатом отчасти собственного выбора, отчасти невозможности говорить в ту пору о многих вещах, бывших под запретом, отчасти — ограниченностью материалов, что не позволило нам взглянуть на Рахманинова как-то шире, свободнее, непредвзятее.
Рахманинов покинул Россию, когда ему было сорок семь лет, чуть менее половины своей творческой жизни он провел за границей, преимущественно в США. У нас и в помине нет архива Рахманинова. Формально Рахманинов не эмигрировал, он уехал на гастроли, которые затянулись до самой его кончины в 1943 году. Но к нему относились не так, как к Глазунову, тоже уехавшему позднее — не без помощи Рахманинова, — якобы на лечение, за ним до конца сохраняли должность директора Ленинградской консерватории. В глазах властей предержащих Рахманинов был эмигрантом, что соответствовало действительности. А разве стал бы кто собирать и хранить архив эмигранта? Поэтому у нас нет ни архива Бунина, ни архивов других покинувших Страну Советов деятелей культуры.
Зато в США, где Рахманинов был гостем, хотя незадолго до смерти принял американское гражданство, заботливо и скрупулезно сохранили и эпистолярное наследство, и любую малость, связанную с великим музыкантом. Его архив очень богат: тут письма близким, знакомым и незнакомым, просьбы о помощи бедствующих и голодающих — естественно, из России, газетные вырезки, программы концертов, заявления для печати, всевозможные свидетельства о нем разных людей, фотографии, официальные бумаги, которые сопровождают жизнь каждого человека. Обычные русские дела: что имеем, не храним, потеряв, не плачем. В великолепной Библиотеке конгресса, где находится рахманиновский архив, смущенно говорили: у нас что — крохи, вот у вас!.. Я стыдливо отводил глаза. Впрочем, они все равно бы не поверили, сочтя шуткой дурного тона, если б я сказал, что архива Рахманинова на его родине нет.
Но я забегаю вперед.
Нашим главным, вернее, единственным источником, ибо все остальное, крайне немногочисленное, касалось музыки Рахманинова, а не его биографии, были составленные З. Апетян сборники воспоминаний и писем. Я не хочу сказать ничего дурного о составительнице, она проделала большую, тщательную работу в тех рамках, в которые поставило ее время. А ханжеское и насквозь лживое время это достаточно памятно. Оно требовало от всех великих творцов России высочайшей нравственности — близко к ангельскому чину, безмерного патриотизма — на уровне сусального герой первой мировой войны Кузьмы Крючкова, чье имя стало нарицательным, народного творчества (для музыканта детская потрясенность колокольным звоном обязательна). Художникам и композиторам исхода прошлого — начала нынешнего века полагалось пройти стасовскую выучку, поэтам и писателям тридцатых — сороковых — школу Белинского.
Были и свои правила для тех, кто после революции оказался в эмиграции. Первое — неизбывная тоска по Родине, воплощенной прежде всего в пейзаже, даже уже — в березках, и страстное желание вернуться под их сень, хотя бы в качестве трупа (это приписали Шаляпину, пытались то же проделать с Рахманиновым, но как-то не удалось, а вот Куприн вернулся полутрупом); полное оскудение творчества на чужбине — ничего значительного и нового не спел тот же Шаляпин, иссяк Бунин — «Темные аллеи» — вырождение творчества, кончились Ходасевич, Георгий Иванов, Шмелев, Зайцев, рухнул Рахманинов — 4-го концерта, 3-й симфонии, «Фантазии на тему Паганини», «Симфонических танцев» как бы и не было. Известный Б. Асафьев свою книгу о Рахманинове-музыканте закончил на его отъезде. Да и где было Рахманинову творить, когда он все свободное от каторжных пианистических гастролей время (дирижерскую палочку ему так и не удалось взять в большую красивую руку — это ложь) тратил на зверскую тоску по сталинской России. К чести З. Апетян, в ее сборниках, пусть сдержанно, отражено эмигрантское творчество Рахманинова. Но конечно, с необходимым перекосом, когда малозначительный «Остров мертвых» оказывается приметнее «Симфонических танцев». Зато первые две не писанные, но железные заповеди выполнены строжайше. Впрочем, немалую помощь в этом ей оказали авторы воспоминаний, ведь многие из них жили в Советском Союзе, а у тех, что находились за кордоном, здесь оставались заложниками родные и друзья, что вынуждало их к сугубой осторожности. Но конечно, идеологической чистоте сборников, их житейской выхолощенности способствовал целенаправленный отбор.