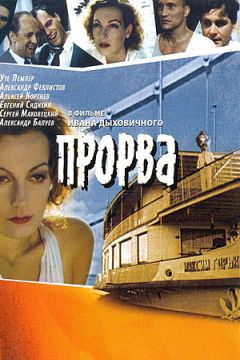«Друг Мой!
Вряд ли мы увидимся еще, — писала Анна по-французски, строго выговаривая французские слова, с наслаждением комкая их и опускаясь голосом все ниже и ниже, стараясь басить, как лучшие француженки. — Но письмо мое вовсе не трагическое: я устала от трагедий. Вчера мне было страшно в последний раз, и сегодня я здорова. Я приготовила обед, большой, какой готовила мама. И почти все приготовленное пришлось выбросить наутро. Я заплакала, потому что ничего не бывает просто так на свете: если я выбрасываю еду, значит, впереди обязательно будет голод. Помнишь, как было голодно, как мучительно!.. И когда я придумала этот бывший-будущий голод, я устала вдруг. Я уснула и выспалась и спросила себя: какой голод? Зачем? И вместе с выдуманным — исчез и тот, настоящий, бывший когда-то…
Я ухожу. Я пересаживаюсь в другой таксомотор.
А он обязательно простит меня. Только не плакать и забыть голод».
Писем на столе было два: одно, по-французски, в Париж, другое — по-русски, в Москву, Адвокату.
Письма продолжались, Анна одевалась под их разговор. Ей пришлось долго двигать повязку на лице. Пришлось перекрасить губы в более темный цвет. А письма продолжали унисон в два языка:
— «У папы был футляр, железный футляр для бутылки, на случай, если в дорогу захочется взять шампанского. А я выбросила его.
Еще от папы остались две рюмочки, которые складывались в яичко, если в дороге захочется угостить попутчика. Их я тоже не могу найти. Самое страшное, что я не могу вспомнить: что еще из „бесполезного“ я выбросила еще? Микраль? Нет, микраль был у тетки Ольги. Можно было бы назвать это щедростью или безалаберностью, если бы это не было так… жестоко по отношению к папе…»
Анна надела пальто и обнаружила в кармане дыру, а в подкладке — предмет. Она засунула руку глубоко в подкладку — и вытащила оттуда часики, в крышку корпуса которых была вделана миниатюра с ней самой: шестнадцать лет, профиль, девочка, переполненная красотой и будущим счастьем.
Анна поцеловала миниатюру и улыбнулась спокойно.
«Адье, Мари». «Прощайте, мой Адвокат», — сказали письма и опустились в карман пальто.
Анна вышла из дома, закрыла квартиру и выбросила ключ в мусоропровод.
Ее впустили в комнату свиданий, она сказала:
— Спасибо большое, — и села ждать. Ей нравилось теперь быть терпеливой и покорной, она улыбалась все время, всем.
Ввели Гошу. Анна встала и обняла пальцами решетку.
Он сел напротив, не взглянув на нее, и заплакал, почти сразу, потому что все время ждал ее, оказывается. Он даже закрыл лицо руками и затрясся от бессилия и слабости.
— Пожалуйста!.. — Анна вытащила платок, спрятала его обратно и тоже заплакала, но, чтобы не пугать «людей», спрятала его, улыбалась и пожимала плечами на стороны.
Конвоир стоял и смотрел, как они плачут.
— Ну чо? — спросили сзади.
— Теперь ревут, — сообщил конвоир и качнул головой: ну люди!
Гоша прекратил плакать и минуту сидел молча, все так же не глядя на Анну.
— Разговаривай! — сказал конвоир. — Ты чо?
Гоша поднял глаза и посмотрел на повязку, стараясь привыкнуть к черному на лице Анны.
«Что?» — знаком спросила Анна. Он приподнял руку и показал на повязку. Ждал.
Она медлила. Долго. Качнула плечами и опять улыбнулась. И сняла повязку.
— Кошмар! — вырвалось у конвоира.
— Очень мало времени прошло, — немедленно обернулась к нему Анна. — Когда сойдет опухоль, будет совсем незаметно. Зато никто не лезет. Нет проблем!
— Все, пошел! — сказали Гоше, рассердившись на то, что у Анны нет глаза.
Он ушел не оборачиваясь. Он очень долго шел по коридору.
Его закрыли в камере, он постоял посреди нее — и закричал, заорал, завыл, завизжал в потолок, забился головой о стену, как билась когда-то Анна, стоило оставить ее одну…
— А может быть, сегодня? — спрашивала Анна. — В честь праздника? — и улыбалась.
— «В честь праздника», — фыркнул начальник. — А если он опять начнет кидаться?
— Но это не он кидался! Я же написала! Это ошибка, я обозналась, штраф мы уплатили. Может быть, можно?
— «Штраф уплатили», — опять фыркнул начальник.
— Да… — сказал кто-то.
— Зоосад.
— Нет, в праздник не выпущу, — решил начальник. — Парад, демонстрация, страна радуется!..
— Но я не уйду, — Анна улыбнулась. — Я дождусь, — с такой интонацией, с какой говорят дети: «А вот сейчас кого-то догоню! И кто-то сейчас получит по попе!»
— Ну жди, — сказал начальник.
— Спасибо большое, — Анна села.
— Теперь села! — фыркнул кто-то.
— Тихо! — предупредили те, кто стоял возле радиоприемника. — Осталось две минуты!
— Внимание, внимание! — сказало радио.
— Начинается!
— А ты тут дежурь! — обиделся тот, кто плакал, и с досадой стукнул по столу.
Анна достала часики с миниатюрой и тоже стала считать.
— Одна сорок шесть, одна сорок пять, одна сорок четыре… — считал конвоир.
В Москве стало тихо-тихо…
— А на площади — тишина, — говорил Доктор «Скорой помощи», задумчиво глядя в окно. — Тишина величественная, почти грозная. Но вот-вот пробьют куранты. Главнокомандующий появится на черном коне, объедет с приветствием войска и оркестр… И тишина взорвется грандиозным парадом!.. Лежите-лежите! — предупредил Горбачевскую, которая захотела встать с кровати. — При головокружениях надо только лежать!
— Тошнит! — объяснила Горбачевская.
— А чего же вы, милая, хотели? Вы готовитесь к рождению нового организма, нового гражданина страны. Может случиться и тошнота, и рвота, и расстройство желудка, а как же! Сейчас мы сделаем вам глюкозу с аскорбинкой… А парадов будет еще много, еще увидите!
— Наоборот, я не люблю парады, — сказала Горбачевская. — Я так возбуждаюсь. Я женщиной стала после парада. Мы шли в колонне, и мне так захотелось, чтобы в меня влюбился Главнокомандующий! А он — махал. И мне стало совершенно все равно. С тех пор я ненавижу парады.
— Внимание! — Доктор поднял палец. — Началось! — и распахнул окно.
В окно влетел бой курантов, но Горбачевскую все-таки стошнило, несмотря на то, что Доктор был идеально похож на докторов кино: с бородкой, в пенсне, с тряской головой.
Парад закончился. На площадь вступила ликующая демонстрация. Здоровые, нет — прекрасные люди со знаменами, цветами и портретами шли и шли мимо трибун… но мужа Анны это уже не касалось.
Он кивнул, чтобы увели бывшую раньше «в яблоках» Марсельезу:
— Сегодня ничего не говори, пожалуйста, — попросил он усатого.
Бутафор прятал в коробочку то, что на параде отличило лошадь от коня, и украдкой, мелко-мелко, благодарно крестился.
— Товарищи! — крикнул фоторепортер. — На карточку!
Муж Анны послушно пошел «на карточку», но по пути его вдруг повело в сторону, к фонтану, низкому, каменному и бессмысленному, куда он — не ожидая сам — прыгнул неожиданно и подпрыгнул два раза, со звуком окатив себя водой.
— Куда?! — успел крикнуть кто-то.
— Ну, учудил! — хохотали остальные, собравшись вокруг мужа Анны.
Муж пошел «на карточку», не в силах удержать, остановить или осмыслить беззвучный хохот, которым смеялся, и такой же хохот остальных, кто знал его и кто простил ему фонтан. Так же хохоча, он закинул ногу на ногу, встряхнул волосами и выпрямил спину. Усатые сели вокруг, фотограф побежал к аппарату, оглядываясь и фокусируя лицо мужа Анны.
Лицо постепенно уменьшалось и уменьшалось, пока не превратилось в невнятный блин размером с горошину, окруженную такими же хохочущими горошинами. Главное получилось: все четыреста человек уместились в «карточку».
— А надпись сделаем такую, — сказала Василию Корреспондентка. — «С каждым годом все тверже и сплоченнее наши ряды!»
— Хорошо, — сказал Василий.
Сам он не снимался, но с гордостью смотрел на сотрудников.
— Внимание! — крикнул фотограф. Василий пошел к выходу.
— А вы? — удивилась Корреспондентка: ей хотелось, чтобы такой красивый Василий тоже сел в кучку.
— Я занят сегодня, Прасковья Николаевна, — сказал он.
И Прасковья Николаевна изумленно замерла: он знал ее!
Василий ушел. Он не любил ни почестей, ни показухи. Он обернулся и сжал ладонь с ладонью, чтобы успокоить Прасковью Николаевну.
— Жаль, — сказала она.
— Есть! — крикнул фотограф.
Солнце в этот день решительно не хотело заходить.
Оно то поднималось, то опускалось над горизонтом.
Люди, стоявшие на мосту огромными группами, следили за его фокусами, ахали и кричали «Ура!!!» на каждый солнечный пас.
— Но как сделано! — сказала девушка в украинском костюме.
— Вот это праздник, — тихо молвил старый хлопковод.
— Урра!!! — кричали все.
Василий ждал Балерину Надежду Павловну в машине. Достал, не удержавшись, как ребенок, из кармана пиджака коробочку с орденом, открыл. Орден сверкнул на солнце миллионами брызг. Он закрыл коробочку и сжал ее в кулаке. Спрятал обратно.