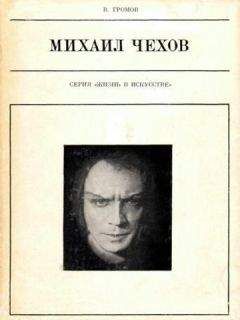Герой водевиля был с головы до ног француз. Он обладал темпераментом особой южной окраски. Нельзя не вспомнить хотя бы один момент. Юноша, ухаживающий сразу за двумя подругами, остается наедине с одной из них. Мизансцена была такая: девушка сидела на авансцене слева, а страстный влюбленный стоял в глубине сцены справа. Оттуда, по диагонали, он посылал объекту своей любви жаркие уверения, но, убедившись, что его слова не действуют, он с криком: «Я вас так люблю, так люблю!» — бросался к девушке через всю сцену. По пути попадался стул. Влюбленный хватал его с невиданным темпераментом обеими руками, сжимал в объятиях с «огненной» страстью и впивался зубами в спинку стула, словно показывая, как велика и могуча его любовь!
Такой трюк может позволить себе лишь совсем особый актер, у которого он прозвучит не только смешно, но станет острой, неповторимой характеристикой данного героя, освещающей водевильную «большую страсть по пустякам» в отличие от «большие страстей по большим причинам» в трагедии, как замечательно определял это Е. Б. Вахтангов.
Из динамичных мизансцен, из каскада водевильно наивных красок перед нами вставал человек пустой, глупый, но несчастный и жадно ищущий счастья. В исполнении Михаила Александровича даже такая, казалось бы, маленькая водевильная шалость вырастала в волнующую человеческую тему.
Еще больше звучала она, когда Михаил Александрович играл инсценированные рассказы А. П. Чехова. Здесь получило размах «человековедение», которое навсегда осталось ведущей идеей творческой жизни артиста. Он не просто увлекся этими рассказами. Он жадно приник к ним, чтобы добыть там богатое разнообразие социальных и моральных тем, человеческих характеров, судеб и самых различных стилистических приемов исполнения, начиная от таких, когда становится страшно за изображаемого человека, и кончая гомерически смешными трюками, на которые имел право осмелиться только он.
Особенно новым было здесь то, что зрителям давалась сразу галерея образов. По-видимому, именно это и вдохновило Михаила Александровича на инсценирование рассказов А. П. Чехова. Актер дал выход огромному запасу своих творческих сил и поражал зрителей искусством короткой сцены, которое по-своему сложно и дается не каждому. Михаил Александрович с неописуемой легкостью перевоплощался во все эти совершенно контрастные образы. Трагикомический талант его заявил здесь о себе с такой определенностью, что стало ясно: именно это откроет актеру путь к невиданным достижениям на сцене.
Тяга к произведениям А. П. Чехова была у Михаила Александровича давно. Ведь он хорошо знал дядю Антона, видел его в доме родителей и от них много слышал о нем. Юмор Антона Павловича, весь дух его произведений были особенно близки Михаилу Александровичу.
Так родилась галерея сильных, незабываемых образов, составляющих особую область творчества М. А. Чехова. Значение каждого из них не меньше любого другого созданного им сценического образа. Я очень рад, что мне посчастливилось быть постоянным партнером Чехова в его многочисленных концертных выступлениях с этими инсценировками.
О широте творческого диапазона говорит даже перечень ролей: «утопленник» в одноименном рассказе; чиновничек («Торжество победителя»); дьячок («Ведьма»); покупатель («Забыл!!»); папенька («Жених и папенька»); студент («Свидание хотя и состоялось, но...»).
Все шесть — совершенно различные образы, в которых не повторялась ни одна черта, ни одна краска, ни одна интонация. Каждый из них — живой человек, представленный с поражающей ясностью характера. Их мало назвать образами — это открытие человеческих сущностей, судеб, взаимоотношений, острых, глубоких, трагикомических.
Когда в своих воспоминаниях перебираешь многочисленные театральные впечатления, накопившиеся за десятки лет, то возникают образы многих замечательных комиков, многих талантливых драматических актеров и актрис; реже встречаются в этой цепи воспоминаний актерские дарования подлинного трагического масштаба и еще реже — актеры, обладавшие драгоценным даром создавать трагикомические образы. Именно таким редким талантом обладал Чехов, многие роли которого могут по праву быть названы трагикомическими. Одной из них была роль «утопленника» в одноименном рассказе А. П. Чехова.
Михаил Александрович предложил мне быть его партнером в этой инсценировке, играть роль агента пароходного общества, которому опустившийся пьянчужка настойчиво предлагает представить «гибель утопающего человека! Картина не столь печальная, сколько ироническая в смысле своих комедийных свойств. За утопление себя в сапогах — два рубля, без сапог — только рубль. »
Первая репетиция. Михаил Александрович прохаживается по комнате, ожидая, пока я, присев у стола, найду в книге текст рассказа. Вот он. Первая реплика у Михаила Александровича. Я жду, и вдруг у меня за спиной раздается такой странный, громкий, хриплый голос, что я невольно вздрагиваю и оборачиваюсь. Передо мной точно то, что описано у А. П. Чехова: «приземистая фигура, с страшно испитым, опухшим лицом...»
Человек? Нет, именно фигура, тень человека, трагически жалкая и почти буффонно смешная. Фигура еле держится на ногах. С перепоя? Возможно, но возможно, что и от голода. Напрягая последние силенки, делая под козырек, фигура «выстреливает» в меня громкие, нелепые фразы: «Виват господину купцу! Живьо! Не желаете ли, ваше высокостепенство, утопленника посмотреть?»
Что это — готовая уже роль или гениальный актерский эскиз? Не знаю. Чувствую только одно: мне совсем не надо думать о том, как «делать» свою роль агента пароходного общества; мне надо только воспринимать тот трагикомический образ, который стоит передо мной, и реагировать на него, как на живое существо. Взбудораженный хриплыми выкриками «фигуры», я невольно вскочил со стула и с настоящей тревогой вскричал: «А где утопленник?»
И в ответ на меня низвергся поток нелепых, глупых, смешных и жалких фраз «утопленника». Чего только не было в этой неудержимо быстрой и вместе с тем заплетающейся, рваной речи: и униженные просьбы, и хвастовство, и неотвязная настойчивость, и рыночное выторговывание лишнего гривенника, и тоска по «благородному» занятию, и наивная гордость своим «благородством», «кровью своей», и даже «научные» рассуждения о том, что в изображении утопленника нет ничего позорного. Почти с пафосом восклицала эта жалкая фигура: «Если б господа доктора убедились, как я делаю. э-э-э... мертвое лицо, они бы меня возвысили.»
Речь «фигуры» была и некультурной и витиеватой. Французские словечки переплетались с церковнославянскими изречениями. Фразы летели на меня, как туча стрел. Я растерянно отбивался от них, произнося свои реплики то со смехом, то с гневом, то с издевкой, то с усталостью от бесконечных приставаний «утопленника». И когда мне (по роли — агенту) становилось совсем невтерпеж, когда я решительно гнал от себя этого «артиста художеств» и отворачивался от него, у меня за спиной раздавались слова: «Позвольте. ваше. высокоблагородие. папироску. одну затяжку. душа горит!»
Эти слова произносились медленно, еле слышно, на последнем дыхании измученного человека. От них сразу замирал весь зрительный зал, который только что до колик смеялся над шутовскими выходками «утопленника». Особое возбуждение, которое охватывало зрителей после этих фраз, не покидало их до конца инсценировки, когда в ответ на слова агента: «Тони! Тони! Будет плавать, тони!..» — «утопленник» — Чехов кричал уже из-за кулис, где предполагалась река: «Да тону, тону! Не совсем же погибать за тридцать копеек!» Это звучало действительно трагикомически, потому что вся роль «утопленника» в исполнении Михаила Александровича была воплощением темы трагической борьбы человека за жалкое подобие жизни, гибели в нем всего человеческого.
И до сих пор для меня осталось прекрасной творческой загадкой умение актера потрясать зрителей трагедией, когда почти каждая фраза изображаемого им человека вызывала гомерический смех.
Фотографии Михаила Александровича в нескольких ролях из инсценировок рассказов А. П. Чехова сохранились и опубликованы в этой книге. Но облик Чехова — мелкого чиновника из «Торжества победителя», к большому сожалению, фотообъектив не зафиксировал.
Возможно, фотография и не рассказала бы ничего — грим отсутствовал, только очень прилизаны были волосы; костюм ничем особенно не бросался в глаза: это был старенький, темный чиновничий сюртучок. Главное заключалось в том, чего не могла уловить фотография, — в чуде преображения, в том, как, затянутый в этот узенький сюртучишко, Михаил Александрович подходил к стулу, как, сжавшись в комочек, садился на него и как, ни разу не встав в течение всего рассказа, актер находил множество легчайших изменений позы и скромнейших жестов, которые хочется назвать «полужестами» насмерть перепуганного мелкого чиновника — мелкого и внутренне и внешне.