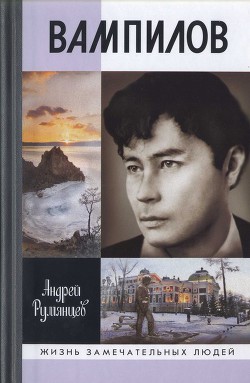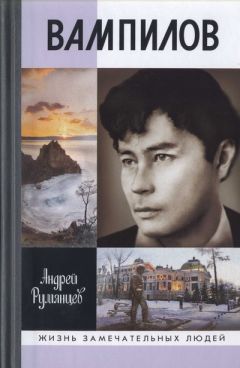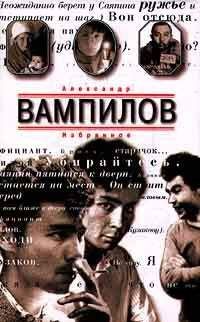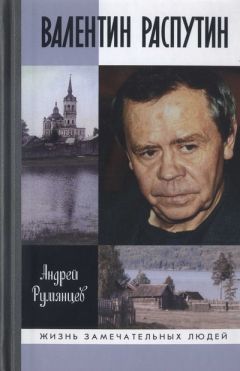Но почему признавался? Не потому ли, что человек, мечтающий о сочинительстве, знает с самого начала: он должен быть правдивым в каждом слове, должен открыть читателю свою душу?
Поэзия, доброта, правда — вот что подарило будущему драматургу детство. Даже его поздние, по воспоминаниям юных лет сделанные записи в карманной книжице, — о поселковой жизни, о людях, которых видел вокруг, — даже эти строки несут налет какой-то неукоснительной, бесстрашной правды, сыновнего понимания чужой беды и чужой души. Едва ли кто из писателей вынес из ранних лет такие, освещенные светом жалости, наблюдения:
«Из детства. 1946 год (стоит напомнить, что этот послевоенный год повсеместно в стране был голодным. — А. Р). В июле на покосе стрелочник Говорухин поймал хорька. Принес домой и затеял жарить. Говорушиха изругала его и выгнала из избы. Он успел схватить сковородку и под бугром, за огородом, у речки сжарил-таки добычу. Говорушиха, пухлая, громадная и разгневанная, стояла на меже, материлась, грозилась изувечить.
— Сковородку, змей, испоганил!
— Иди, иди сюда, — кричал снизу Говорухин, — попробуй! Ты попробуй — за милу душу пошиташь! (посчитаешь)».
«Митька Широколобов — немтырь. И его двоюродный брат рыжий Сережа тоже немой. Обоим лет по сорок. Митька большой физической силы, злой. Бил жену и детей. Дети говорящие, тихие, казалось, с навеки испуганными глазами. Старшего Пашку Широколобова помню семилетним, неестественно большеголовым, рахитичным, постоянно вздрагивающим от недавних побоев. Недавно встретил его в трамвае. Не знаю, как мне удалось его узнать. Он — моряк, на побывке. Здоровый и, как мне показалось, нахальный парень.
— Как живешь?
— Ништяк!
— Отец дома? Как он?
— Помер, — весело говорит Пашка, — в пейсят пятом зимой простудился и помер. Ну я пошел. Счастливенько!»
Галина Валентиновна припомнила из давних лет:
«У Морозовых в бане жила странная одинокая женщина по имени Аксинья. Фронтовичка, замкнутая, молчаливая, она ходила всегда в ватных штанах и телогрейке, но иногда сварит бражку и разговорится. Сане она много рассказывала о войне. Я хорошо запомнила его фразу: “Я напишу о ней”. И без сомнения, он написал бы о ней, потому что в свою карманную книжицу он занес — на долгую память — несколько слов о жестокой судьбе этой землячки».
Может быть, в рассказе о подростке нельзя приводить глубокое суждение, которое оставил Александр Блок, — не всякий человек придет к нему в отрочестве. Суждение такое: «Оптимизм, как и пессимизм, — признак плоского и пошлого мировоззрения. Только понимание жизни как трагедии дает цельную картину мира». Но в случае с Вампиловым можно допустить, что он понимал это. Ведь вскоре он сам запишет в свою книжицу: «Жизнерадостный идиот». Детство на каждом шагу показывало, что жизнь полна трагедий, но ее неустроенность, жестокость, непредсказуемость драматических поворотов преодолеваются добротой и любовью — этими бесстрашными посланцами красоты и счастья.
В Сашиной записной книжке есть и другие строки, которые, не боясь ошибиться, можно отнести к пережитому в отрочестве. Например: «Моя первая любовь. О ней писать еще не настало время». И в другом месте: «Первая любовь — это не первая, не вторая и не последняя. Это та любовь, в которую мы больше всего вложили самих себя, душу, когда душа у нас еще была».
Его одноклассница Анна Проскурякова рассказывала годы спустя после ухода из жизни Александра:
«В классе он ни с кем из девчонок не дружил, а очень любил девочку младше его. Она жила в деревне Ерма, училась на класс младше нас. Он к ней каждый день ездил в деревню на велосипеде, это несколько километров от Кутулика. Сочинял для нее стихи, только ей посвящал. Мать была недовольна. Сколько, говорит, в своем классе хороших девочек, а он нашел какую! Она очень плохо училась. Анастасия Прокопьевна учила ее, потом та осталась на второй год и бросила школу. Ну, он страдал по ней. Мы, конечно, все знали эту историю. Рано она вышла замуж за своего, деревенского, и он просто переживал все это».
Вокруг и в самом деле было немало девчонок, обращавших на себя внимание, — бойких, умных, красивых. А восьмикласснику Саше приглянулась девочка тихая и неброская, в простенькой одежде. Почему? В ней было что-то смиренно застенчивое, мучительно притягивающее.
Девочка, ее звали Людмилой Ч., приходила в школу и возвращалась домой в стайке своих сверстников-односельчан, и Саша стеснялся провожать ее в этой компании. По уговору с ней он приезжал в Ерму поближе к вечеру, но никогда не появлялся у ее дома, а ждал за околицей, в придорожном рву, присев на буйную, немятую траву, пахнувшую пылью. Эта его любовь умерла не вдруг, она и тогда, когда их пути навсегда разошлись, вспоминалась с мучительным постоянством. Стихи об этом чувстве он не выбросил, а хранил их среди своих бумаг и, помню, даже позволил прочесть их в студенческие дни:
Шаткая калитка
В стареньком плетне,
Всем она открыта,
Но уже не мне.
Прохожу я мимо,
Загляжусь слегка.
Под окном черемух
Белых облака.
Не пойду я ближе,
Постою я тут.
Там меня забыли,
Там меня не ждут.
Разнята калитка
Не моей рукой,
И уходит в полночь
Уж не я — другой.
Помню, я калитку
Тихо затворял,
Ласковое имя
Тихо повторял.
Не пройду я мимо,
Загляжусь слегка.
Под окном черемух
Белых облака.
Не зайду я больше
В их густой приют.
Там меня забыли,
Там меня не ждут.
Эта его любовь всплывала неожиданно в живых и чистых виде́ниях, и всегда нежная боль отдавалась в сердце резким и сладким уколом…
В девятом-десятом классах он пережил еще одно увлечение. На этот раз оно было не детски-пугливым и застенчивым. Его можно было назвать «зрячим». Тем чувством, на которое можно взглянуть как бы со стороны и предугадать его течение. С недомолвками, но вполне откровенно Саша рассказал о нем в письме Геннадию Белобородову:
«Пришел из школы, взял гитару, пел песни. Надоело. Зашел к Шагаловым… и тут началось. Галька (Шагалова) за разговором сказала между прочим, что приехала она. Гена, прими условность: одно лицо я буду называть просто “она”. Что-то гулко ударило в груди. Стараясь не подать виду, вышел и два часа бесцельно просидел, удивляя своей усидчивостью стул, стоящий в моей комнате. Пошел в клуб — сегодня мы опять гастролируем (здесь: показываем спектакль. — А. Р). Вхожу в зал и хочу подняться на сцену. Но, проходя между рядов, чувствую на себе взгляд. Не надо говорить (вставляя перед словом “взгляд” поэтичных прилагательных), как значителен для меня этот взгляд. Поворачиваюсь и со словом “здравствуйте!” опускаюсь на свободную соседнюю скамью. Она отвечает с улыбкой и даже с насмешкой. (Вкратце опишу наши отношения.)