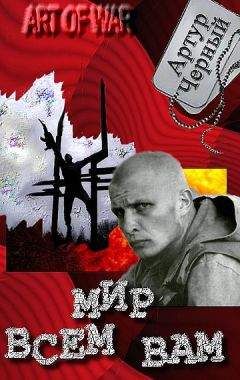Надо сказать, что во время гастролей Большого театра «Жизель» в исполнении советских артистов поразила западных зрителей свежестью и новизной впечатлений.
Об этом писали в немецкой газете «Ахт ур блатт»: «Меньше месяца тому назад лондонский балет, показывая „Жизель“ с Алисией Марковой, не мог нас избавить от впечатления, в особенности в первом акте, что мы видим немой фильм. Чрезмерно патетическая жестикуляция плохо действовала на зрителя, потому что была чужда и самим актерам.
А вот русские показали нам ту же Жизель, но исходящую из внутреннего чувства, как будто трогательная история крестьянской девушки происходит как раз сегодня, в этот момент. Артисты растворялись в своих ролях. Их движения, их мимика, их жестикуляция говорили, что они убеждены в том, что они представляли. Их ровное спокойствие перекинуло мост от романтики действия к классической форме танца. Естественная наивность участников драмы стерла пыль с музейной старины».
Впервые Уланова станцевала Жизель в 1932 году. Сначала она была назначена на партию Мирты, но заболела Е. Люком, и Л. Леонтьев очень быстро «ввел» ее на роль Жизели. Естественно, что это был еще очень смутный набросок образа. В работе над этой партией она была почти предоставлена самой себе, самостоятельно создавала свою интерпретацию. Случилось так, что она даже не видела свою непосредственную предшественницу в роли Жизели — Е. Люком, не говоря уже о Павловой, Карсавиной или Спесивцевой. Она постигала образ непосредственно, всецело доверяясь своей интуиции.
Второй раз Уланова танцевала Жизель в 1934 году и в третий раз вернулась к ней во время войны, в Алма-Ате. С тех пор, если не считать вынужденных перерывов, Жизель — ее неизменная спутница.
Танцуя «Жизель», Уланова передает стиль этого романтического балета. Кажется, что ее простодушная Жизель в первом действии живет под лазурным небом такой радостной прозрачности, которая бывает только на голубом фоне старинных, скрупулезно выписанных миниатюр. Во втором акте она представляется легкой реющей тенью, белым призраком, таинственно возникающим из ночной мглы и бликов лунного света.
Поражает тщательность ее техники, завершенность каждого, самого мельчайшего движения. Красота мечтательных арабесков, легкость быстрых взлетов и кружений Улановой — все это как нельзя лучше передает стиль хореографического рисунка «Жизели», ее исполнение может служить школой, наглядной академией танца. И в то же время ничто у нее не выглядит пустой стилизацией, любованием прелестной «архаикой» форм старинного балета. Каждый танцевальный штрих осмыслен ею, связан с глубиной сложных артистических задач. И внешний облик ее гораздо меньше стилизован, чем у таких современных исполнительниц партии Жизели, как Иветт Шовире, Лиан Дейде, Алисия Алонсо и другие. Собственно говоря, все они стремятся воссоздать ставшую канонической гравюрность облика Анны Павловой и Ольги Спесивцевой.
Уланова никому не подражает, ее грим ничем не напоминает фотографий Павловой, округленные пряди не закрывают уши, не прилегают к щекам. Гладко причесанные, убранные назад волосы открывают бледное, почти не измененное гримом лицо.
Костюм второго акта — традиционный костюм сильфиды романтического балета — белые тюники, крылышки за спиной и бледно-розовый веночек на голове.
Для первого акта Уланова нашла облик, во многом отличный от предшественниц.
Судя по фотографии, костюм Тамары Карсавиной в «Жизели» довольно точно воспроизводил известные гравюрные изображения Гризи.
Сохранился эскиз прелестного, обшитого голубыми лентами костюма, сделанного для Анны Павловой А. Бенуа. При всем очаровании в нем есть нечто от кокетливого балетного «пейзанства».
О. Спесивцева внесла новшество, надев в первом акте очень короткую белую кружевную юбку с разбросанными по всему полю крошечными голубыми цветами. Этот по-своему изысканный костюм дополняли синий шелковый лиф, украшенный маленькими медными пуговицами, голубая лента в волосах, голубые туфельки.
Французские исполнительницы Жизели Иветт Шовире и Лиан Дейде, очевидно, желая найти внешний контраст второму действию, танцуют первый акт в очень короткой жесткой юбочке, что не совсем подходит к характеру танца.
Костюм Улановой для первого акта составляет юбка такого же покроя, почти такая же легкая и длинная, как во втором действии, синий корсаж, синяя лента в волосах и маленький коротенький кружевной передник с крошечными карманами, куда Уланова очаровательным, «уютным» движением прячет руки. В этом костюме Улановой есть что-то трогательное. Айрис Морли писала, что среди костюмов других персонажей «белое с голубым платье Жизели отмечено печатью особого изящества, подобно нежной голубой жилке под тонкой кожей».
Бережно сохраняя аромат и обаяние старинного классического балета, Уланова по-новому осмысливает философскую концепцию «Жизели». Она как бы снимает двуплановость романтического балета, антитезу первого и второго актов, противопоставление реальности и мечты, жизни и загробной тени.
Для нее второй акт — это словно иное бытие Жизели, продолжение «жизни человеческого духа», а не отвлеченное появление бесстрастного холодного видения. Это поэтический рассказ о силе женской любви, побеждающей саму смерть, о внутреннем преображении бесконечно любящего существа.
Роль Жизели обретает цельность, уничтожается разрыв между первым и вторым актами, их объединяет единство художественного замысла актрисы, которая видит в акте виллис органическое развитие единой, прозвучавшей еще в первом действии темы бессмертной, самоотверженной любви. Уланова приносит в старинный балет размышления о силе любви, прощения, о мудрости добра, об искуплении зла.
В ее исполнении второй акт становится высшей точкой развития внутренней драмы. Жизель Улановой и после смерти продолжает бороться за свою любовь. В первом акте зло и обман сломили Жизель, во втором, в облике виллисы, она борется против зла и жестокости, в этом — найденное актрисой развитие философской темы образа.
Вот почему в ней появляются черты той силы, величия, которых не было даже у лучших исполнительниц Жизели. Все они решали роль в плане трогательной элегии, грусти. Мечтательная печаль была основной краской пленительного исполнения Карсавиной. Английский исследователь сценической истории «Жизели» Сирилл Бомонт пишет об «элегическом существе интерпретации» Павловой. Спесивцева доводила грустное очарование образа до степени трагической обреченности.
Уланова первая наполнила образ Жизели ощущением огромной духовной силы. Это, а также удивительная цельность всего образа — то новое, что внесла она в интерпретацию балета.
Но начнем разговор об улановской Жизели с первого акта. В исполнении Улановой Жизель — это обыкновенная сельская девушка. Даже наряд ее, как говорилось выше, кажется подчеркнуто простым: синяя лента в волосах, синий корсажик и белая воздушная юбка. Эта пышная юбочка доставляет ей много забот, она все время занимается ею, хлопотливым деловитым движением беспрестанно оправляет ее, словно птица, которая разбирает и чистит свои перышки. Ей весело возиться с этим белым облачком, так и кажется, что она только что сама его заботливо накрахмалила и разгладила. В Жизели Улановой есть простодушное лукавство, детское наивное кокетство, юмор и милое своеволие.
Ее пантомима — это какая-то естественная немота смущения, девичьей стыдливости, когда только глаза и трепет рук говорят о чувствах, владеющих сердцем.
Жизель выглянула из-за двери в ответ на стук Альберта. Он спрятался. Никого нет. Жизель — Уланова с недоумением оглядывается, но тут же забывает, зачем вышла из дома, — сияние солнца, голубого неба восхищает ее, она начинает танцевать беспечно, радостно, беззаботно.
И опять, как всегда у Улановой, этому танцу предшествует внутренний импульс — момент, когда, выбежав из хижины, она словно зажмурилась от света, замерла от восхищения и радости, полной грудью вдохнула чистый ароматный воздух. И возникший вслед за этим танец кажется таким же естественным, как этот счастливый глубокий вздох.
Неожиданно увидев Альберта, она отворачивается, опускает голову, стоит неподвижно, потупив глаза. Это замечательная улановская поза — в ней чуть угловатая грация девичьего смущения, настороженность, ожидание. Она и дичится Альберта и как будто бы ждет, чтобы он заговорил с ней. Когда юноша подходит, она отнимает свою руку медленно, словно нехотя — в ней борются влечение и робость, симпатия и сковывающая застенчивость. Вообще при всяком приближении Альберта она затихает, настораживается, все движения ее словно «затормаживаются», становятся медленнее, нерешительнее от охватывающего все существо смущения.
Она пытается убежать, но Альберт удерживает ее. Три раза ее рука тянется к двери и всякий раз по-иному. Сначала она не на шутку испугана, и ее жест решителен и порывист, второй раз она уже как бы колеблется — остаться или уходить, и, наконец, в третий раз протягивает руку, уже не помышляя о том, чтобы уйти, а просто из чистого кокетства.