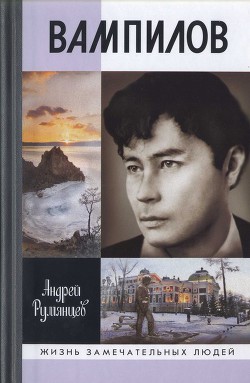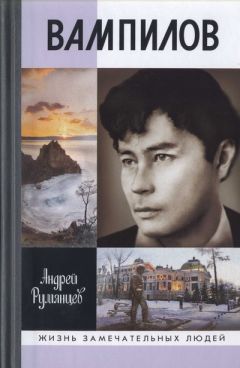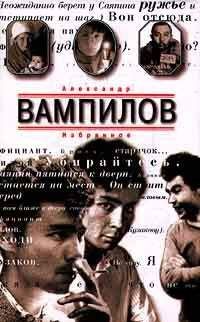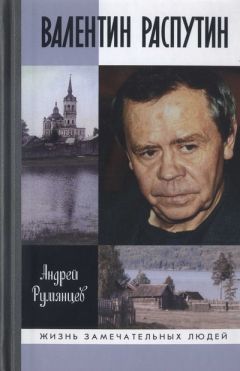Это была какая-то вакханалия фарисейства и тупости. Но сегодняшний читатель может убедиться по записным книжкам Вампилова: он уже тогда фиксировал образ времени без ретуши и суд над ним вершил без боязни. Прочтите: «У дураков всегда больше принципов»; «Чрезмерная святость, как и фанатизм, всегда ведут к изуверствам»; «Слова “любить”, “люблю” звучали в его устах страшно неестественно»; «Разгул слабоумия». А какая зрелость ума, духовная свобода видны в такой записи: «Опричнина, коммунисты, фашисты, лейбористы, маккартисты — все это временные категории. Дураки, умные, любимые, нелюбимые — категории вечные».
Отношение Александра к тогдашней комсомольской бюрократии точно передал Игорь Петров: «Началось это на первом курсе, когда после избрания комсорга он очень серьезно предложил включить в план работы комсомольской группы коллективный выход… в планетарий. В первый раз, да на первом курсе, когда еще сильна была инерция школьного комсомола, это предложение приняли нормально и включили его в план. Правда, пожелание рядового комсомольца группа так и не осуществила. Однако каждый год при составлении очередного плана Вампилов первым поднимал руку и тихим, невинным голосом предлагал этот самый злополучный “коллективный выход в планетарий”. То, что это издевка, все прекрасно понимали».
Но вне университета у Саши и его приятелей начиналась другая жизнь. Все же время на наше поколение свалилось благодатное: после крещенской стужи диктата, однообразия мнений, запретов на всё и вся — возвращенные имена в отечественном искусстве и вновь открываемые величины в культуре зарубежной, ожидание больших перемен, радужные надежды…
* * *
Особое место в этой весенней жизни занимало чтение.
Осенью «оттепельного» 1956 года вышел двухтомник Есенина. Вампилов и его друзья полдня прели, зажатые тугой толпой покупателей, в книжном магазине на улице Ленина, — и каждый обзавелся драгоценным изданием. Через год кто-то по счастливой случайности приобрел томик Павла Васильева, его читали и сообща, и в одиночку, передавая из рук в руки. После набивших оскомину стихотворных прописей его поэзия — буйная по краскам, плотски жаркая и душная — пьянила, как хмель:
Да то не сказка ль, что по длинной
Дороге в травах, на огонь,
Играя, в шубе индюшиной,
Без гармониста шла гармонь?
Что ель шептала: «Я невеста»,
Что пух кабан от пьяных сал,
Что статный дуб сорвался с места
И до рассвета проплясал!
В те же дни будущие филологи открыли для себя Бориса Корнилова, Исаака Бабеля, Андрея Платонова, Артема Веселого, Ильфа и Петрова… Книги лежали в общежитии студентов под подушками, на тумбочках, в фанерных ящиках под каждой кроватью. Саша приходил в комнату однокурсников почти каждый день, садился на койку, читал вслух «Одесские рассказы» или «Золотого теленка». И уже среди прежних, знакомых тирад, то и дело звучащих по поводу и без повода, вперемежку с чеховскими или гоголевскими, изрекались новые: «Пусть вас не волнует этих глупостей…»; «Он думает об выпить хорошую стопку водки…»; «Бензин ваш — идеи наши…»
Борис Кислов принес книжку, вышедшую в большой серии «Библиотеки поэта» — у автора было уменьшительное, детское имя: «Саша Черный». Читали опять же вслух, обсуждали. Казалось внове, что сатирическое жало стихов, изящных и едких, направлялось не против политических врагов или сил, мешавших общественному развитию, а против обыкновенного, тихого, заплесневелого быта, который живуч при любых формах жизни. Поискали и нашли книги других сатириков, чьи имена стали носиться в воздухе. Вампилову очень нравились эпиграммы Александра Архангельского, наиболее эффектные из них он помнил наизусть и при случае декламировал.
Я выбрал для дипломной работы Есенина — кого же еще! Потребовалось знакомство с писателями его времени, с его окружением. Взял пропуск в спецфонд университетской библиотеки и прочел — о ужас! — статью Бухарина о поэте, «Роман без вранья» Мариенгофа, стихи Клюева, Клычкова, Ширяевца, Наседкина, а к ним строфы того же Мариенгофа, Шершеневича, Кусикова, мрачные книжонки Крученых о есенинской судьбе и творчестве. Когда выписал книги Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского, был потрясен, что собрание сочинений последнего состояло из двадцати с лишним томов. В темной, задымленной курилке библиотеки делился с Сашей своими открытиями; пытался вынести ему — хотя бы на пару часов — «Роман без вранья»: Вампилов очень интересовался этой книгой, заклейменной Горьким.
Набрасывались и на зарубежных авторов, чьи книги появились на прилавках магазинов. Открывались Хемингуэй, Ремарк, Сент-Экзюпери, Кафка и многие другие… у каждого были свои кумиры. Тогда впервые прочел Вампилов О. Генри, ставшего его любимым писателем. Сидя на железной койке в нашей убогой студенческой комнате, он элегантно произносил строки, особенно понравившиеся ему: «Желтый лист упал на колени Сопи. То была визитная карточка Деда Мороза»; «Он остановился в квартале, залитом огнями реклам, в квартале, где одинаково легки сердца, победы и музыка». Это терпкое вино фразы составляло одно из блаженств Вампилова. Он и из Бабеля с большим удовольствием повторял не смешную тарабарщину еврейских диалогов: «Что сказать тете Хане за облаву? — Скажи: Беня знает за облаву…», а необыкновенные метафоры автора: «Несчастье шлялось под окнами, как нищий на заре» или «Пьяницы валялись на дворе, как сломанная мебель…» Уже позже, в публикации из записных книжек Вампилова, прочел я его признание: «Меня удивил Бабель. Яростный, ослепительный стиль».
Еще долго, да всю жизнь, будем мы нести восхищение и благодарное чувство к чародеям слова. В столетний юбилей О. Генри Вампилов не удержался, написал для читателей молодежной газеты о своем любимом авторе — излил душу.
Давняя и неослабевающая привязанность была у него к русской классике. Душа его лежала к тем гениям, которые выразили «трагическую подоснову мира». В поэзии, например, его внимание останавливали стихи, отмеченные глубоким, мучительным чувством. Читая их наизусть, он любил выделять неожиданный, но оправданный эпитет, необычную метафору, а особенно — лукавую или язвительную шутку, вроде лермонтовской: «Устрой лишь так, чтобы тебя отныне недолго я еще благодарил». Плакатные краски, общественные призывы, если они не несли искреннюю боль, не трогали его. Акварель, тихое, исповедальное слово, горящая под пеплом страсть — вот что было ближе ему.
До третьего курса Саша писал стихи. Несколько из них сохранилось и теперь опубликовано. Оставив в стороне их несовершенства, мы можем убедиться, что молодые чувства и размышления выражались Вампиловым негромким словом, с благородной сдержанностью и душевной чистотой:
Что неприветливо, широкий дол, шумишь?
Не можешь мне простить разлуки?
Что не хранят, чего не помнят люди,
То, вечный, ты и помнишь, и хранишь.
Я навсегда в твоих лугах бескрайних,
Я навсегда в твоих лугах густых.
И после всех дорог судьбы —
Случайных,
Извилистых, запутанных, крутых —
Последняя дорога мне прямая —
Сюда, чтобы спокойно умереть…
Как-то на квартире молодого иркутского поэта, к которому мы с Саней наведались, разгорелся спор о тогдашних литературных «звездах». Хозяин утверждал, что стихи модных в те дни поэтов нравятся людям смелостью содержания и новизной формы. Вампилов не согласился. Весьма спокойно и коротко он сказал, что деклараций в этих стихах достаточно, а сложностей жизни не видно. Что касается неполной, ассонирующей рифмы, которую сейчас чаще всего выдают за поэтическую новизну, то после есенинского «Пугачева», стихов экспериментаторов 1920-х годов это не новизна, а повторение пройденного. Вскоре Саня шутя сочинил пародийное стихотворение «в современном духе», из которого я запомнил одно четверостишие (фамилия поэта П. Реутского, с которым наша компания дружески сошлась, упомянута здесь без всякой задней мысли, просто из озорства):