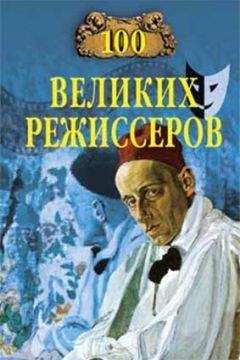— Неблагодарный, — скажет Гайдебуров. — Кем он был у Мейерхольда? Актером на выходах? А здесь получил всё и разорил хорошее дело! Но он погибнет, даю слово, ты будешь свидетелем, что без меня он погибнет.
Она молчала, не желая выдать недовольства мужем, ни одним словом не поддержала его, не очень-то веря, что Таиров без Гайдебурова пропадет.
Что-то, безусловно, было в этих трех его попытках режиссировать, обнадеживающее, в нем самом что-то было, отсутствие страха ошибиться, он даже не давал себе возможности взглянуть — какая под ногами возникала бездна.
И вообще был милый, прелестный мальчик, так хорошо говорил на сцене, так смотрел, а какой приятный запах! Запах не последнее дело в театре, иногда с партнером играть невозможно.
И она что есть сил скрывала недовольство мужем, не сумевшим его удержать.
Оскорбительнее всего оказалась провокация, устроенная Гайдебуровым. Спектакли Передвижного театра всегда шли под суфлера. В «Грозе» суфлера заменил какой-то посторонний субъект и сбил у Таирова, игравшего Бориса, две-три реплики. Скарская устроила скандал, заявила, что играть с актером, не знающим текста, не будет. Гайдебуров всё это вынес на общее собрание, где Таиров, обычно знавший текст назубок, не упрекнул Гайдебурова в полном незнании толстовского текста «Во власти тьмы», когда играть было просто невозможно.
Он догадался, что его провоцируют, но уходить было не время, он извинился перед Скарской. Гайдебуров, изображая великодушие, тоже якобы простил, но не уйти было невозможно. И Таиров ушел, а с ним группа актеров вместе с заведующей хозяйственной частью театра Ольгой Яковлевной Таировой, как было подписано открытое письмо в газету, излагающее инцидент и объясняющее уход.
Гайдебуров возмутился — из его театра не уходят! — и дал такой текст ответа, что изумил не только видавшую виды Скарскую, но и саму графиню, несколько месяцев после этого не приезжавшую в театр.
Что вело его? Обида? Уязвленное самолюбие? Как это от него, Гайдебурова, уйти, что значит принять самостоятельное решение? Это значит поставить под сомнение великое дело Передвижного театра. От него добровольно не уходят. Он написал письмо в газету. Кто-то недобрый вел его рукой, не Скарская, она об этом письме даже не знала. Гордыня написала это письмо, уязвленная в самое сердце гордыня. И он опубликовал послание о черной неблагодарности господина Коренблита, которого три сезона обучал режиссуре, давал лучшие роли, привел к успеху, а тот ушел, да еще внес сумятицу в душу многих актеров. Зачем он это пишет, Гайдебуров не знал, это был камень, пущенный вслед, наудачу. И Таиров ответил.
«К чему понадобилась г. Гайдебурову эта чисто полицейская справка о моей фамилии?! Г. Коренблит очередным режиссером у него вовсе не служил, и вообще каким бы то ни было режиссером в Передвижном театре не служил.
…Снисходя (Боже, как высокомилостиво) к выраженному им желанию учиться режиссуре… я дал ему возможность и т. д. Это неправда».
Ему было грустно отвечать. С его ненавистью к конфликтам не хотелось ни в чем разбираться, да еще публично. Он усмотрел низость в поведении Гайдебурова, а низость он не прощал никому, тем более близким людям.
Таиров не любил себя казнить — накладно для души. Но он и не совершал такого, из-за чего нужно было бы казнить. Вот только если предал веру своих отцов…
Но это слишком красиво в предреволюционной России, когда возникала другая вера — марксистская, и ты вполне мог считать себя человеком мира.
Но там, где у человека роится сомнение, там оно и роилось, никуда не девалось, напоминало, напоминало, о чем оно там в современном семействе должно было напоминать?
— Мы же современные люди, — говорила Оленька. — Перестань казнить себя.
А он и не казнил, просто помнил, но так сильно и всегда, что через тридцать пять лет на вечере памяти Соломона Михоэлса попытался перевести еврейский гений в какую-то другую категорию, сделать Михоэлса наднациональным. Когда говорят о патриотизме, — дело плохо, но есть еще похуже, когда говорят о наднациональном. Это когда сам себя загоняешь в тупик. Но всё потом, потом — и Михоэлс, и наднациональное.
Он никак не мог привыкнуть к слову «выкрест» и, возможно, революции ждал так страстно, чтобы избавиться от этого слова. Никогда не совершал над собой насилия, а тут убедил себя, что надо, — и совершил. Малым искуплением стало то, что, роясь в потоке современных пьес, всегда выделял те, что про евреев в России, про участь отца, мамы, его собственную, если бы он не вырвался из Бердичева на эту непонятно откуда взявшуюся стезю, но все-таки его, именно его стезю, способствующую счастью.
Он даже успел параллельно Гайдебурову сыграть в такой пьесе — «Прощай, Израиль» Осипа Дымова.
— Вот мы уедем, — сказал он Оленьке. — Теперь я стал никто, обыкновенный гастролер, без имени, репутации, каких много в России, теперь я — чайка, Нина Заречная. Что будешь делать?
— Поедем с тобой, — сказала Оленька. — Договоримся, чтобы меня взяли на работу, пусть даже костюмером, стирать я умею, в свободное время буду учить актеров правильно ставить ударения, должны же Бестужевские курсы для чего-то пригодиться.
Знал бы Яков Рувимович, о, знал бы бедный Яков Рувимович, в каких мелочах погряз его сын, пробивая себе дорогу!
Мина Моисеевна умерла в 1907 году. Дети разъехались. Он все сидел и ждал, когда Саша привезет ему университетский диплом, но больше всего — и это знал один только Саша, — он ждал, что откроется дверь и в комнату войдет его сын — великий артист.
Пути Господни неисповедимы. Разобравшись с Гайдебуровым, как казалось ему, навсегда — а это слово он не любил, — Таиров переехал в Ригу.
По Евреинову, театр создал мир, но следует все-таки уточнить — не везде. Не в Риге, что недалеко от Петербурга, но совсем-совсем другой, проще, но как-то бесцеремонно проще, скучней, благообразней, чинней, что создавало в театре ощущение вечного покоя и позволяло никуда не торопиться.
Тезисы к спектаклю можно было бы читать по тетрадке, что Таиров ненавидел, но сразу понял, что следует произвести на своего нового хозяина, г-на Михайловского, прежде всего, солидное впечатление.
* * *
Его никто не торопил. Он чувствовал себя как муха в банке, в которой еще полно варенья.
Светлый, просторный город, несмотря на обилие людей, можно сказать, пустоватый, он напоминал народное гулянье — прошло и как будто не было ничего.
Мурочка вертелась весь день в театре, рядом с мамой, как всегда, ухитряясь никому не мешать. Встречая ее в коридоре, он удивлялся, что у него есть дочь, а она любила, забираясь в партере под кресла, прислушиваться к его репетициям. Бог знает о чем он там говорил, но это был голос ее отца, так редко слышимый в доме. Когда он приходил, она уже спала.
На первой же репетиции в Риге он сказал:
— Все мы каторжники, прикованные к одной тачке. Всё говорит мне — не оставлять ни за кулисами, ни внутри себя вспышек недовольства. Моя дверь открыта. Кто я? Модернист, стилизатор, натуралист или иной? Как бы я ни ставил, буду требовать от актера художественного реализма. А теперь прошу любить меня и жаловать.
Он засмеялся, и они тоже в ответ, но как-то жалобно, не понимая, что их ждет.
Он говорил им о МХТ, как о высшем сознании в хаосе театра, о реализме вещей, затмивших актера, о подражании жизни. И о Мейерхольде, сумевшем после того, как МХТ зашел в тупик, призвать к барельефной, статуарной, условной красоте. За что он Мейерхольду благодарен.
Но это новый тупик. Нельзя одним ключом открыть все пьесы. Он предлагает «индивидуацию». Пьеса диктует стиль, форму, которые обязательны, а не стиль театра диктует стиль пьесам.
Не надо бояться упреков в эклектизме. В искусстве эклектизм — рычаг его эволюции.
Пьеса должна находить выражение соответственно ее внутренней сущности.
Метод постановки — создание впечатлений, картин.
Игра актеров должна быть выражающей сущности, а не случайные характерности.
Здесь следовала ненавидимая Гайдебуровым цитата из Льва Толстого о насморке у Наполеона. Насморк этот в роли Наполеона ничего не добавит, наоборот, загородит от зрителя заметное важное.
— Вот главные моменты деятельности режиссера, — говорил Таиров. — Первое — ознакомить исполнителей с планами постановки, ее основаниями, ее рисунком (стиль мизансцены и внешних движений). Второе — на фоне этого рисунка исполнитель может начать импровизировать. Третий этап — все свести к целому, отбрасывая лишь недостатки. Потому что нужен ансамбль.
Все эти соображения в самом деле принадлежат ему. Он говорил как человек, сдерживающий новое, часто прямо противоположное тому, что он перед ними произносил.
Это новое требовало других слов, а главное, других усилий, для него нужно было прежде всего узнать самого себя, а это страшно, легче пройти вместе со всеми по дороге, отбрасывая ненужное, оставляя только свое.