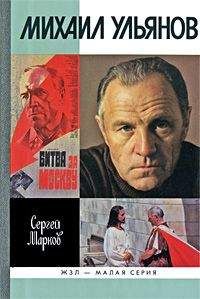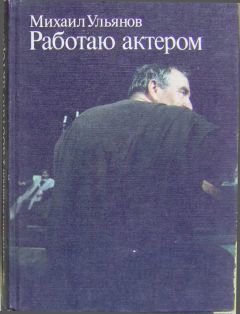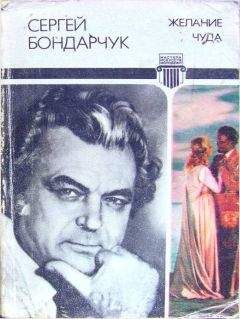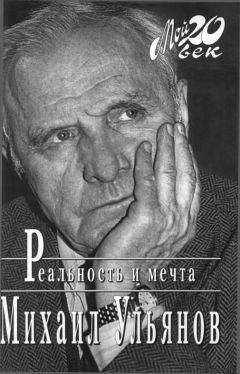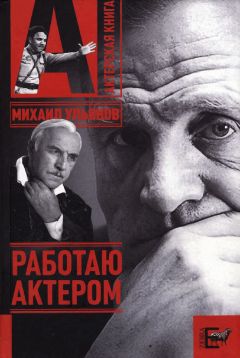Моя пышноволосая красавица-сестра Екатерина, от смущения не всегда в таких компаниях адекватная, но, воспитанная в семье поэта, запросто, к месту и не к месту читавшая стихи, продекламировала зачин отцовской поэмы:
Шумит великий океан
И гулко сотрясает землю,
Окутанную в сон-туман,
Душой ленивою издревле…
— А как вам Холстомер Лебедева в БДТ, Михаил Александрович? — скромно поинтересовалась тихая моя мама.
— Замечательная работа!
— Кто ваши любимые актёры?
— Очень я ценил Михаила Астангова, моего учителя. И пожалуй, Евгений Лебедев… Вот такие два совершенно разных актёра: один романтик, другой заземлённый русский мужик, эдакий скоморох…
— А из зарубежных?
— Обожаю Джека Николсона. Марлона Брандо.
— Притом что сам Михаил Александрович — не хуже, а лучше, — сказала Марина Неёлова.
— Хоть и платят в десять тысяч раз меньше, — заметила Галина Борисовна.
— Мне кажется, и Холстомера вы могли бы сыграть, и любого зверя, — продолжала Марина. — Режиссёр Наумов рассказывал: играя генерала Чарноту в «Беге», вы медвежью походку ему придумали — и так вжились в образ медведя, что даже лошадь от вас шарахалась.
— Было дело, — улыбался Ульянов.
Катерина, чувствуя себя в ударе, читала поэму:
…Возможно, жил я неумело,
Шагал не по тому пути.
Я этот мир не переделал,
Прости, любимая, прости…
— Хорошо, — одобрил Михаил Александрович, никогда ничего не читавший, не декламировавший в компаниях, будучи «до мозга костей», как выразилась Лена, профессионалом.
Окрылённая Катерина хотела продолжать, выдать на-гора что-нибудь своё, а она — распахнутая и порой неожиданно глубокая поэтесса, но передумала, заговорила вдруг о мужестве Солженицына, Сахарова — я больно ущипнул её под столом…
Я стеснялся своих родственников. Комплексовал. И до конца пускался на всякие хитрости, чтобы только не приглашать Ульяновых домой к родителям. Где скапливались горы немытой посуды. Где вольготно, как в зоопарке, разгуливали жирные наглые тараканы. Сопоставляя стерильную чистоту квартиры на Пушкинской с более чем творческим беспорядком квартиры на Ломоносовском, я юлил. Алла Петровна обижалась на моих родителей за то, что не приглашают. Михаил Александрович тоже порой недоумевал. Но я гнул свою линию, придумывая иногда самые фантастические причины, поводы, уловки. Глупо, конечно. Но…
В чём-то сваты были схожи. До такой степени, что казались едва ли не родными. Но в этой семье — если метафорой всей России, как сказал мне в интервью в Гаване великий писатель Хулио Кортасар, считать семью Карамазовых — Ульянову отведена была бы роль Дмитрия (это и уловил Пырьев), а вот отцу моему, что касается женщин, девушек, и особенно под старость — боюсь, что чуть ли не… самого отца семейства, Фёдора Карамазова. Грешно, конечно, говорить. Но мама моя, которой он вдохновенно, искромётно, плодотворно изменял, сказала однажды, когда я, торопясь на экзамен, убежал, оставив подругу в постели у себя в комнате, что «папу оставлять наедине с девушками нельзя ни в коем случае». В кошмарном сне даже не могу представить себе, чтобы такое сказали об Ульянове (отношение его к Алле Петровне было настолько идеально-рыцарское, что я порой не понимал, как Лена вообще на свет появилась; верность какая-то даже не лебединая, волчья, он, как волк, позволял своей волчице себя кусать, но мог изредка и сам рыкнуть, показать зубы, но за неё готов был броситься на любого, — когда я не слишком корректно ответил тёще на упрёки в том, что «стучу как дятел» на машинке вместо того, чтобы заняться делом, грядки, например, прополоть, Ульянов спустился с мансарды и так сказал мне: «Мы тоже, Сергей, кричать умеем», что я тотчас заткнулся).
Грешно говорить такое об отце? А почему, впрочем? Он был поэт! И он любил и имел многих представительниц прекрасного пола — на зависть не-поэтам! Моя самая красивая однокурсница на ежегодных встречах в МГУ до сих пор, выпив водки, восхищённо вспоминает (подробности я опускаю): «…это был мужик!..»
(Кстати, о Толстом, о Солженицыне — как о человеческих и художнических типах — мне представляется занятной запись Эдуарда Лимонова в его своего рода эпохальном, писанном в начале 1980-х в эмиграции, в Америке, «Дневнике неудачника»: «Льва Николаевича Толстого, живи он сейчас, я ударил бы поленом по голове за кухонный морализм, беспримерное ханжество, за то, что не написал он в своих великих произведениях, как пере…л изрядное количество крестьянских девушек в своих владениях. Александр Исаевич Солженицын, мой дважды соотечественник, заслуживает, чтоб его утопили в параше. За что, спросите? За отсутствие блеска, за тоскливую серость его героев, за солдафонско-русофильско-зэковские фуфайки, в которые он их нарядил (и одел бы весь русский народ — дай ему волю), — за мысли одного измерения, какими он их наделил, за всю его рязанско-учительскую постную картину мира без веселья. За всё это в парашу его, в парашу!»)
Но мои заметки — об Ульянове. Даже дома Ульянов всегда был опрятен, аккуратно одет — я ни разу не видел его в банном, например, халате и, тем более, в какой-нибудь майке и трусах, босиком. Бывало, мы занимались с ним физическим трудом, перетаскивали что-нибудь, взгромождали по требованию Аллы Петровны, да и после тяжелейших физически спектаклей, «Ричарда III», «Я пришёл дать вам волю», «Наполеона», я никогда не чувствовал запаха пота, что было бы вполне естественным.
Я не слышал, чтобы он повысил голос на женщину. Выругался матом при женщине, да и вообще, за редчайшим, может быть, исключением, не видел, чтобы он сидел в присутствии женщины. Не подал ей руку. Или пальто. Не пропустил вперёд. Он — уроженец одной из самых глухих деревень в России, сын неграмотной матери. Алексей Марков — тоже из семьи неграмотных. Но на наших семейных прогулках шагал, заложив руки за спину, впереди. Как принято на Востоке, где он воспитывался. Жену мог и поколотить…
А как ликовал отец, когда на его творческий вечер в Колонный зал Дома союзов приехал вдруг (вопреки отговорам Аллы Петровны, которая боялась, что выступлением у русофила Маркова муж подмочит репутацию) Ульянов в светлом, мокром от тёплого летнего дождика костюме! Отец был похож на мальчишку, поймавшего в своей быстрой мутной горной Куме огромного сома! И Ульянов, когда ему после художника Глазунова предоставил слово ведущий вечера поэт Егор Исаев, выступил. Хорошо — он вообще выступал, не в пример подавляющему большинству актёров, хорошо, всегда с фабулой, композиционно продуманно и без всяких лишних слов-паразитов. А закончил словами Маркова:
Целую алый край зари,
Как полковое знамя,
И что ты там ни говори,
А Русь всегда за нами!
Зал стоя аплодировал.
Ульянов от природы угрюм, мрачен. Как конец ноября, когда он появился на свет. И с этим сам всю жизнь пытался бороться. Марков же — беспорядочен, прозрачен, искромётен. Как вешние воды солнечным днём в самом начале весны, когда он родился.
После похода Ульянова в ЦК на Старую площадь (возможно, сыграет роль и набиравший уже силу «ветер перемен», как споёт любимая рок-группа первого и последнего президента СССР М. С. Горбачёва «Скорпионе», но явно не главную) Алексея Маркова выпустят в капиталистические страны: он совершит круиз по Средиземному морю, побывает в Швеции, Норвегии, Англии, Франции… Его детская мечта о путешествиях сбудется.
И если уж забежал вперёд, скажу: на похороны Алексея Маркова, когда мы, в общем-то, и перестали уже быть родственниками с Ульяновым, на похороны, где не будет ни друзей-однокашников — Владимира Солоухина, Егора Исаева, Ильи Глазунова, почти никого из именитых, и даже отца Алексея Злобина, в то время депутата Верховного Совета РФ, настоятеля храма в Городне, так многим отцу обязанного, не будет, — Ульянов, отменив важнейшую встречу в Кремле, приедет. И помолчит у могилы, поддерживая мою маму под руку. И мне скажет, крепко обняв, простые, но такие нужные мужские слова: «Ты держись, Сергей».
* * *
Вечером в кинозале «Белоруссии» смотрели картину «Мефисто» с Брандауэром в главной роли. Он играл крупного, ульяновского масштаба актёра времён Третьего рейха, после мучительных размышлений, терзаний всё же пошедшего на сотрудничество с фашизмом. Предавая идеалы. Мечты. Друзей. Любовь. Сильнейшая сцена, когда после своеобразного такого голосования, поставившего последнюю точку на терзаниях героя Брандауэра, его слепят прожекторы со всех сторон на арене цирка или на стадионе и он, пытаясь заслониться руками, надсадно, надрывно, загнанно вопиет: «Чего они ещё от меня хотят?!.»[7]
И на Ульянова фильм, похоже, произвёл впечатление. Он допоздна мрачно вышагивал по палубе мостика, офицерской палубе, глядя на весёлые разноцветные огни Сан-Ремо, Монако, Лазурного Берега, отражающиеся в волнах.