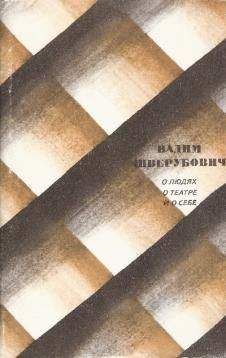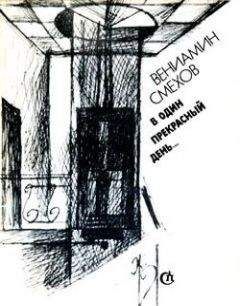И так пошло потом у всех — все выступавшие больше молчали и до своих слов, и между ними, и после них. И это были такие горестные, такие трагические молчания, так они были полны горячей, страстной нежности, так насыщены любовью, памятью, благодарностью Сулеру…
Несколько дней я ходил потрясенный таким общим чувством горя, разделенного горя, скорби так многих хороших людей об этом лучшем из лучших человеке.
Но прошла неделя, другая, и я стал забывать его. И забыл надолго, ох как надолго! Перестал думать о том, о чем он нас учил думать, и не делал того, к чему он нас призывал, вернее, делал то, чего он не хотел, чтобы мы делали.
Но, конечно, для русского театра с его смертью ушло далеко не все из внесенного им. Прекрасным памятником ему и его наследием был созданный им под руководством Константина Сергеевича театр — Первая студия Художественного театра. Спектакли этого театра, даже выпущенные после его смерти, во всяком случае в первые два‑три года, были его спектаклями.
Его они были потому, что носили отпечаток его учения, его воспитания, его личности. Но, конечно, целиком и полностью его были первые спектакли Студии — «Гибель „Надежды“», «Сверчок на печи», в известной степени его был «Потоп». «Гибель „Надежды“» я помню плохо, был, очевидно, еще слишком молод и глуп, а «Сверчок» до сих пор вспоминаю с наслаждением, как «слезы первые любви».
Именно слезы свои вспоминаю, потому что плакал на спектакле с какой-то особенной радостью, почти с чувством восторга от того, что так плачу, не стесняясь своих слез, гордясь их бескорыстием, их чистотой, высотой вызвавшей их причины.
Все в этом спектакле было прекрасно. Прежде всего текст инсценировки, который углублял, умудрял и делал еще более добрым философский и этический смысл рассказа. Прекрасно было внешнее решение — предельно скупое и простое, но такое уютное, как никогда в театре не бывало. Все было очень английским, но не по-английски благостным, это был тонкий и умный перевод английского быта на русское понимание. Перевод, который я потом всегда вспоминал, читая пастернаковские переводы шекспировских сонетов. Но всего прекраснее были, конечно, актеры. И каждый в отдельности и еще больше объединявшая их всех общая атмосфера, легкий, нежный, но крепкий и стойкий аромат спектакля.
Основой этой атмосферы была доброта. Не благожелательность, не отсутствие зла, злобности, а именно доброта, активная, действенная доброта.
Я в те годы (1914–1916) при всем своем «милитаризме» и воинственном «патриотизме» еще не дал заглохнуть в себе Сулеровым толстовским началам — любил читать и продумывать Евангелие, пытался если не жить, то хоть воспитывать свою душу согласно ему, но основа его была мне не то что недоступна, но мало понятна, трудно воспринимаема. Любить человека вообще, постороннего «ближнего» я не умел, не постигал возможности искреннего, ненасильственного чувства такой любви.
И именно «Сверчок» с этой его атмосферой помог мне: ощущение благотворности доброты, радости от нее, счастья, которое она дает творящему и испытывающему ее открыло мне смысл и цель жизни. Быть добрым, быть таким, как люди «Сверчка», — в этом я видел тогда основу счастья человека.
Первым и главным носителем, создателем, творцом добра был М. А. Чехов в роли Калеба. Он с такой мощью, с таким накалом, так напряженно любил, так убедителен был в своей вере в добро, что и свирепый Тэкльтон — Вахтангов воспринимался через него и через слепые, но любящие глаза Веры Соловьевой не воистину злым. То, что к концу он преобразится, зритель чувствовал с самого начала, потому что верил, не мог не верить Чехову, который окутывал всех нежным облаком доброты, светившейся в нем и освещавшей всех, с кем он общался. Но добро нес не только он — и кроткая, слепая дочь его — Соловьева, и Джон — Хмара, и Мэри — Дурасова, и нелепая полудурочка Тилли Слоубой — Успенская. Все были его носителями, все убеждали в его непобедимости, в случайности, преходящести подозрительности, ревности, злобы — всего того, что зло пытается внести в жизнь человека.
Преображение Текльтона — Вахтангова воспринималось не только как победа добра, но и как самый убедительный показ борьбы добра со злом, полем для которой был Тэкльтон. Но мне и моим сверстникам самым ярким, самым светлым казался (а мне и до сего времени кажется) образ Феи — Гиацинтовой. Ее голос звенел так же нежно и лучисто, как сияли ее глаза. Она несла основное волнение автора и режиссера за благополучие исхода событий, и зритель делил с ней это волнение, это напряжение и душевно-деятельное участие в том, что перед ним происходит. То, что это происходило не на сцене, а тут же, в этом маленьком помещении, которое отделялось от зрителя только воображаемой преградой, — делало все еще более близким, волнующим, задевающим самые чувствительные и отзывчивые струны души. Все главное совершалось не только перед зрителем, а внутри его — в его сознании, в его чувствах…
Поэтому таким глубоким было воздействие. Ни одна проповедь, ни одна мистерия не казалась мне в те времена такой впечатляющей, такой активно изменяющей, так перестраивающей нравственный строй человека, как этот прекрасный спектакль. И это в нем было для меня мощно и устойчиво, и каждый раз его воздействие было все тем же, то есть он воспринимался мною всегда с одной и той же силой и в том же направлении, убеждал в радостности самого процесса добротворения. И каждый спектакль и при жизни Сулера и после его смерти говорил со зрителем голосом Сулера, в каждом звучала его интонация.
Но не один «Сверчок» был таким; далеко не первосортная пьеса шведского писателя Бергера «Потоп» дала Студии материал для прекрасного и тоже морально воздействующего спектакля. Чехов — Фрэзер! Мне кажется, что это было его лучшей ролью. В первом акте несчастный и отвратительный в своей злобе, брызжущий ядовитой слюной беспомощный гаденыш. Он как будто наизнанку выворачивался от ненависти ко всему окружающему…
Чистенький, аккуратно, почти элегантно одетый и причесанный, он казался ядовитой жабой, вся его внешняя элегантность забывалась, на него было противно и страшно смотреть. Его скрипучий голос, прерывающаяся, выплевывающая злобные слова речь — это было омерзительно слушать… И такое полное перерождение во втором акте!
Внешне он менялся в одну сторону: мятая, растерзанная, вылезающая из брюк рубашка с болтающимися расстегнутыми манжетами, дыбом стоящие слипшиеся волосы…
Внутренне — в другую: добрые, растерянные, внутрь себя смотрящие глаза, полный любви и понимания взгляд на и в других людей; полный ласки, любви и сочувствия голос; та же шепелявая и заикающаяся речь звучала теперь добротой, в ней было стремление и умение утешить и порадовать… Я не боюсь сказать, что это перевоплощение, этот переход от зла к добру был у него гениален. Причем это не был другой человек, нет, это был он же, но в другом аспекте, это была другая ипостась той же личности. После этого хотелось в каждом злом видеть его потайную доброту. Казалось не только вероятным, но несомненным наличие в каждом самом плохом человеке скрытого хорошего, а в добром и хорошем — еще лучшего, и это умение увидеть определяло меру доброты в смотрящем…
Я помню наши разговоры в гимназии — с какой силой в нас возникало стремление к добру, близости друг другу, взаимопониманию, — ко всему тому, что мы видели пробуждающимся в действующих лицах второго акта «Потопа».
И третий акт, когда вновь торжествовало зло, нас не разочаровывал: то, что мелькнуло в людях в часы близости гибели — это и есть их истинная сущность, остальное же — лишь защитный панцирь, прикрываться которым вынуждает жизнь.
Конечно, не один Чехов создавал это убеждение, не в нем одном совершалась эта трансформация, но в нем она была всего ярче — уж очень он умел быть омерзительно жалок в первом и прелестно жалок во втором акте. И как актер он был выше всех, и материал роли давал ему эти возможности как никому другому. Обаятелен был Хмара, но, насколько я понимаю, замысел роли был ему не по плечу, он — актер не дорос до образа, к которому стремился, к которому его вели Сулер и Вахтангов. Но эффектен он был чрезвычайно. В сущности, он был дирижером-руководителем акта. Под его влиянием совершалась метаморфоза людей, он давал тон добра. Но ведь может быть, что в оркестре при самом прекрасном дирижере ярче всего звучит, ведет мелодию один из инструментов. Таким ведущим инструментом был Фрэзер — Чехов. Но Сулер и Вахтангов сумели всех, весь ансамбль (и Сушкевича — Страттона, и Смышляева — Чарли, и холодную, хоть и плакавшую ручьями «настоящих» слез Бакланову — Лицци, и очень среднего актера Гейрота — Вира) сделать живыми, настоящими, близкими людьми. Зритель моего поколения любил их всех, страдал с ними, сочувствовал им всем. И для старшего поколения это был один из самых сильно воздействующих на психику, из самых добротворящих спектаклей. Для воспитанников же Сулера — особенно: в нем для нас звучал его посмертный призыв — напоминание о долге, об обязанности растить в себе добро и изгонять зло. Призыв верить, что добро сильнее и прекраснее и что в нем и есть настоящее счастье. Каким памятником можно отблагодарить его за все это, его, нашего доброго учителя и друга, нашего бесконечно любимого, незабвенного Сулера?..