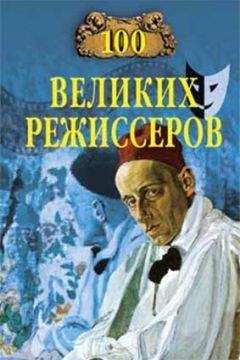Это как бы тебе внезапно вернули молодость, а ты и не просил. Но не отказываться же!
И вот хлопочут народные представители, пытаются создать новое правительство, пусть Временное, хотят сохранить государственное лицо перед всем воюющим миром, не нарушать договоренностей, продолжать войну до победного конца. А солдаты уже пошли с фронта по домам, без приказа, и ты идешь навстречу потоку, пробивая путь локтями, отчаянно вопя, кто тебя услышит — затопчут.
Нельзя идти против толпы, отказываться быть толпой, когда мир в одночасье рухнул, но все спаслись и бегут в образовавшуюся пробоину.
Сам ли Таиров присмотрел это здание, Южин ли его надоумил, став комиссаром московских театров, только маленький домик на Никитской в глубине двора, где находилась актерская биржа, был в апреле предоставлен Российским театральным обществом тому, что осталось от Камерного театра.
— Названия менять не будешь, Саша? — спросил Южин. — Есть примета…
— Не буду, — сказал.
— И правильно, — согласился Южин. — Вот мы почти двести лет всего лишь Малый, а ничего дурного, как видишь, не случилось.
Александра Александровна Яблочкина поцеловала Таирова в лоб, передала поклон Алисе и благословила.
И пока дома ждала Алиса, которую гонцы от Станиславского, бывшие коллеги, пытались уговорить вернуться в Художественный театр, и пока ходил по Москве, посвистывая, безработный красавец Церетелли, а революция заполняла мозги своей звенящей пустотой, Таиров сидел в крошечном закутке нового Камерного театра, вглядывался в сцену, при-щурясь: что в этом бедном театре, лишенном колосников, глубины и кулис, можно сделать, не слишком ли расстроится Алиса и не есть ли это насмешка революции — во времена таких возможностей выделить ему крошечный ноготок московского пространства?
Можно поменять квартиру, перейти из дома в дом, но театр не так легко перенести, он уже перестал быть абстракцией, параметры его сцены стали параметрами твоей души, а она вся там, на Тверском, в особняке братьев Паршиных, но что поделаешь, что поделаешь, там уже играют «Леду» Каменского, демонстрирует обнаженное тело безымянная дива, толпа рвет билеты из рук.
— Там теперь внизу мюзик-холл, — с презрением скажет Алиса Коонен через шестьдесят лет, увидев изумленное лицо автора этой книги, и укажет пальцем вниз на расположенную под ее квартирой сцену бывшего Камерного, откуда, мешая нашей беседе, разухабисто играл оркестр.
Но это будет уже без Таирова. А пока, в 1917 году, он жив и всё складывается вполне исторически благополучно — революция, новый адрес Камерного театра — Никитская, 19, художники вместе с народом, общее братание. Она входит в этот зал, сияя, чтобы не огорчить его, хотя внутри у нее слезы. Но она справляется. В конце концов, особняк братьев Паршиных был в начале войны тоже совсем не готов для театра, а вот гляди же, сыграли «Сакунталу» и «Фамиру», много чего сыграли, удалось же! И здесь удастся.
— Здесь прелестно, — неожиданно заявляет она. — Наконец мы будем соответствовать своему названию.
Она не рассказала ему о предложении художественников, пощадила, не рассказала, как ее убеждали забыть о Камерном, мол, без мецената он не воскреснет, а какие теперь меценаты?
А вот воскрес же, потому что у нее был Таиров. У них слава, богатство, возможности, у нее — Таиров, что сильней?
Политик он был или какой-то престидижитатор, только всё шло во благо театра, даже в дни смерти Камерного в феврале он не давал о нем забыть, опубликовав статью в театральной газете «Петь нельзя не мучась». Всему находя объяснение, во всех вселяя надежду.
Надо беспрерывно напоминать о своем существовании, даже когда ничего у тебя нет, и, в конце концов, всё образуется. Он умел держать своего зрителя, своих актеров в форме.
Кто вам сказал, что Камерный умер? Пока он жив, Камерный не может умереть. Удача не отвернется ни от него, ни от Алисы, они стали талисманами друг для друга. В двадцать первом году — «Записки режиссера» с посвящением «Алисе Коонен — Александр Таиров», в пятидесятом — могильная плита на Новодевичьем с коленопреклоненной Федрой: «Александру Таирову — Алиса Коонен». И так всю жизнь…
И тут случилось то, что потом часто будет происходить с Александром Яковлевичем, когда трудно становится провести черту между политикой и фантазией, некое специфически таировское безумие. Он решил поделиться, да, да, вот этим самым закутком, но не просто так, расточительно, а чтобы придать размах новому начинанию, в масштабе революции. Предложил создать ассоциацию вольных мастеров сценических постановок Москвы и Петрограда, собрать все левые силы режиссуры, к тому времени уже возникшей как профессия, и начать работать под эгидой Камерного театра. Подписать афишу четырьмя именами: Мейерхольд, Евреи-нов, Комиссаржевский и Таиров.
Пусть это островок, но вполне реальный, и им он готов был поделиться, чтобы создать в Москве не еще один вариант Камерного театра, а могучее объединение людей, мыслящих по-новому, возвращающих театр театру.
Это была благородная и конечно же утопическая затея, где-то в глубине души не одобряемая Коонен, но зато — этого она не понимала, — даже одно упоминание о таком сообществе придавало вновь возникшему театру настоящее величие, привлекало к нему внимание.
И все как-то сделали вид, что откликнулись. Мейерхольд даже согласился в следующем сезоне поставить вместе с Таировым спектакль — «Обмен» по Клоделю, — взял на себя переговоры с Евреиновым. Что-то невнятное, но вполне доброжелательное буркнул и сам Евреинов, вяло, но не отказываясь, начал переговоры Комиссаржевский.
И могло завершиться дело, такое же красивое и бесперспективное, как Февральская революция, причем у театров шансов было больше, там — Керенский с Милюковым, здесь — Таиров, если бы режиссеры хоть на йоту были интересны друг другу. Они конечно же были благодарны Таирову за предложение, но сами уже давно посматривали по сторонам, каждый ждал от революции чего-то главного для себя самого, а Мейерхольд, тот вообще не верил в либеральные перемены и вступил в партию большевиков. Его безупречный нюх не верил в революцию без крови, не нуждался в подачках, все хотел получить в бою.
А пока они думали и гадали, в новом Камерном начались репетиции.
Сбор труппы оказался малочисленным, вокруг разброд, неизвестно, куда делись люди, но здесь обнаружилась еще одна способность Таирова — не бояться сильных, независимых, притягивать в театр не просто актеров, а личностей, способных заменить семерых. Фердинандов, Эггерт, Глубоковский, Аркадин, Церетелли, Коонен.
Красавицы тоже попадались, и какие! Например, Августа Миклашевская. Коонен не боялась конкуренции, Таиров любил ее навсегда.
Роскошные, живописные люди собрались в маленьком зальчике на Никитской и, когда оказались вместе, сами охнули — настолько это была парижская труппа, и что им оставалось вместе делать, как не побеждать?
Пожалуй, не было в Москве в те годы — да и после — такой мошной богемной компании, которой не работать бы, а гулять и гулять, жить праздно в оргии революции — зачем работать таким великолепным людям? Но они пришли к Таирову, веря, что им будет интересно. На другое существование в театре они не соглашались.
Борис Фердинандов знал, что Таиров, несомненно, заинтересуется им не только как актером, но и как художником. Он был огромен, настырен, живописен, тяжеловат. Он был полон идей, а режиссеры никого так терпеть не могут, как актера с идеями — тут с собственными бы разобраться. А Таирову нравилось, что перед ним не просто исполнители, а собеседники — и какие! Настоящие безумцы.
Он любил равных. Знал, что всех увлечет, со всеми справится. Любил тех, кто способен оценить и разделить.
Конечно, судьбы каждого были написаны у них на лице. Актеры, как поэты, всегда ясно, каким будет их последнее стихотворение. Фердинандов был обречен мучиться с самим собой, нести собственное тело на своих плечах, быть постоянно неудовлетворенным и не насытиться. К нему надлежало относиться с нежностью.
Борис Глубоковский, дилетант во всем, но почти гениальный, был человеком легким и тяготел к таким же, как он сам. Ему нравилось гибнуть, было такое модное веяние в начале века, гибнуть публично, что не так просто, как кажется, — ты будто берешь обязательство перед людьми, что обязательно погибнешь, когда-нибудь, и обязан сдержать слово. Он был умен, авантюрен, энергичен. Таким его любили в компании Есенина, чьим непременным спутником он был, таким запомнил его на Соловках будущий академик Лихачев, как создателя воровского театра, самонадеянного и бесстрашного человека.
Константин Эггерт — самовлюбленный, мощный, непокорный, как бык, все отрицающий, имеющий на все свою точку зрения, мешающий Таирову работать, но как вдохновенно мешающий! У него тоже не сложится — будут ссылка, маленькие театрики, маленькие роли, неудовлетворенные амбиции, он просто задохнется от невостребованности.