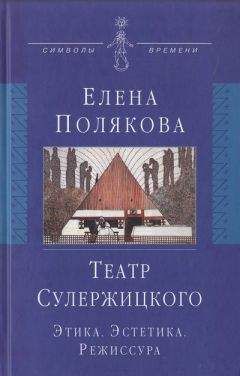Поставленное в кавычки слово «гости» повторялось в статье так часто и сопровождалось такими оскорбительными замечаниями, что места для сомнений не оставалось: новые хозяева положения церемониться не собираются. И не только с приехавшим в Латвию из-за рубежа Чеховым, но и со многими деятелями культуры, латышами, в которых они тоже видели «чужаков». В день, когда появилась статья в газете «Латвис», стало, в частности, известно о ликвидации Рабочего и Народного театров Риги, чья деятельность, по мнению узурпаторов власти, «не отвечала национальным интересам».
На выходку «Латвис» Михаил Чехов ответил полным достоинства письмом. Но бороться со сложившейся ситуацией было ему, конечно, не под силу. От уже начатой постановки «Царицы Савской» он отказался, публично поблагодарив руководителя Национальной оперы Т. Рейтера за радость, доставленную ему работой с коллективом театра над «Парсифалем» Вагнера.
Прогрессивные круги были захвачены врасплох. Влияние их так же быстро уменьшалось, как возрастало влияние фашиствующих элементов. Михаил Чехов уехал в деревню. Здоровье его сильно пошатнулось. Врачи приказали ему лежать. Хочешь не хочешь, пришлось удалиться от дел. А пока руководитель школыстудии болел, его ассистент был назначен директором. Актеров стали сгонять на площади для репетиций национальных шествий, парадов, «живых картин». Воспитанникам студии приказали разучивать фашистские пьесы.
Не соглашаясь с вводимыми порядками, большая группа студийцев (32 человека) решила покинуть школу. На них накричали. Пригрозили лишить дипломов. Навсегда выбросить из рядов латышского искусства. Но им удалось «обойти» рассерженных руководителей и создать свой небольшой театр — «Ансамбль-студию латышской драмы». В нее вошли: Карлис Лиепа9, Вольдемар Пуце10, Петерис Васараудзис11, Ирина Лиепа12, Мильда Клетниеце13, Анна Степулане14, Эльвира Балдыня15 и другие. Во главе коллектива встал В. Пуце.
А сам Чехов к тому времени давно уже уехал из Риги. Через русского импресарио в Берлине Л. Д. Леонидова он получил от известного американского антрепренера Сола Юрока предложение совершить гастрольную поездку по Соединенным Штатам Америки. Импресарио ждал окончательного ответа, чтобы приступить к составлению труппы,- Сборным пунктом назначили Париж. Надеясь перед поездкой подлечиться, Михаил Александрович медлил было с ответом, хотел прожить в Латвии еще некоторое время. Но тут, совершенно внезапно, ему попросту отказали в праве дальнейшего пребывания в стране.
На семейном совете, к которому были привлечены и некоторые друзья, решили, что сначала Михаилу Александровичу следует поехать в Италию, на курорт для сердечных больных, и только потом двинуться в путь. Переезд в Италию был настолько тяжел, что Чехов снова слег в постель. Но импресарио торопил. Надо было ехать. Осенью тридцать четвертого года Чехов пишет из Венеции в открытке, адресованной Добужинскому: «Когда увидимся? При каких обстоятельствах? Буду ли я иметь счастье работать с Вами?»
Снова у разбитого корыта
Собравшись в Париже, актеры подготовили для гастрольной поездки в Соединенные Штаты Америки несколько спектаклей. Были тут «Ревизор» и «Женитьба» Гоголя, «Бедность не порок» А. Н. Островского, «Чужой ребенок» В. В. Шкваркина, «Дорога цветов» В. П. Катаева, «Дни Турбиных («Белая гвардия») Михаила Булгакова и вечер инсценированных рассказов А. П. Чехова. Никаких особых задач или художественных целей собравшиеся явно себе не ставили. Просто каждый, по-видимому, предложил что-либо давно и более или менее удачно сыгранное. В репертуаре Михаила Чехова снова оказались Хлестаков, дьяк Гыкин из «Ведьмы» (Раису играла В. Соловьева), герой монолога «Торжество победителя» и тот самый папаша, который начисто забыл, что поручила ему дочь купить в нотном магазине.
Перед отъездом в Америку труппа показала несколько спектаклей в театре на бульваре Батиньоль. Как писали газеты, Чехов «играл с милой, преувеличенной легкостью и непринужденностью». Ранее «нажитое» в роли Хлестакова не было, конечно, растеряно. «Попадались очаровательные и действительно художественные куски». Были и срывы. Но, несмотря на них, у собравшейся в театре «откровенно веселившейся публики» артист «имел огромный успех». Что-то было тут похоже на происходившее с ним в Варшаве. И Чехов, конечно, заметил это.
А ко всему прочему, как в свое время в истории с шекспировской «Двенадцатой ночью», не повезло Михаилу Александровичу с декорациями. В последнем действии из-за короткого антракта их не успели переставить. И гоголевские чиновники как ни в чем не бывало выходили из дверей спальни городничихи, а Анна Андреевна и Марья Антоновна, хотя и были в домашнем платье, появлялись на сцене с улицы. Газетчики, конечно, ехидничали, а Чехов нервничал.
Незадолго до отъезда он пишет явно предназначенное для американской печати письмо Солу Юроку. Оно должно предварить его появление на нью-йоркской сцене, и он старается понравиться американскому зрителю, польстить ему.
«Америка — незнакомый мне мир — давно волнует меня, как прекрасная сказка! — заявляет он. — Все описания, картины, рассказы, все письменные и устные восторги, которые приходится читать и слышать, все они так разнообразны, богаты и многосторонни, что трудно, невозможно составить себе единое, живое представление об Америке. Но вот судьба моя решила воплотить мою давнишнюю заветную мечту: я сам увижу таинственную Америку; сам увижу чудеса ее жизни, быта, творчества.
В моем сознании живет вопрос, жгучий, волнующий: «Как работает, как творит американский художник?» Я думаю при этом преимущественно о трех его свойствах: о его непредвзятости в работе — его не связывает ничто старое, он всегда свободен в своей творческой работе, он всегда свеж, молод, восприимчив ко всему новому, он непредвзято подходит к теме своего творчества... Правда это? Так это?
Второе свойство — беспредельная энергия — о, как она нужна художнику, как я надеюсь почерпнуть ее в Америке, научиться ей в Америке!
И третье свойство — это способность американского го художника доводить начатую работу до конца! Я увижу, без сомнения, многие прекрасные результаты художественной работы такого рода!
Живу надеждой вскоре увидеть Америку-сказку. Знаю, что это будет не совсем обычная сказка о мощных силах, о безграничных возможностях, о беспредельных человеческих замыслах...
Там, где талант сочетается с мощной энергией человеческой, — там возникают чудеса, там мир сказок...»
Мих. Чехов
Париж, 25 декабря 1934.
Реклама есть реклама, и ее непререкаемые законы лучше всего могут нам объяснить характер преувеличенной восторженности, проявленный в этом письме Чеховым. Но если это и не так, — до знакомства с истинным лицом американского «мира сказок» ему оставалось уже недолго.
Из Парижа уезжали 7 февраля тысяча девятьсот тридцать пятого года. Букеты цветов. Шутки. Смех. Щелкают затворы фотоаппаратов. Но вот подходит время. В группе собравшихся движение. Объятия дам. Кое-где слезы.
— Садитесь, садитесь, друзья, поезд отходит! — кричит кто-то, вскакивая на подножку вагона.
Все время где-то скрывавшийся Чехов появляется у окна. Поезд трогается.
Через несколько дней корреспондент рижской газеты настигает Михаила Александровича и его труппу в Бельгии незадолго до их посадки на пароход. Разговор идет вначале поверхностный, ни к чему не обязывающий. Чехов заявляет, что с удовольствием вспоминает о Риге и рижской публике, что он охотно снова встретится с ней. Оба — и актер и его собеседник — отлично знают: сейчас зто совсем-совсем не так просто. Но делают вид, будто ничего не произошло. Михаил Чехов даже рассказывает, что перед отъездом из Латвии условился с директором театра «Русской Драмы» выступить в роли царя Федора Иоанновича в трагедии А. К. Толстого. Контракта, правда, не подписали, но свое словесное обещание он, Чехов, надеется сдержать.
— Вы работаете сейчас над какой-нибудь новой ролью?
— Собственно говоря... нет.
Заговорили о планах на будущее. Но оказалось, что чего-либо определенного, конкретного за пределами гастрольной поездки Михаил Чехов не имеет.
— Вас не утомляют частые поездки? — спросил корреспондент.
— И да, и нет, — ответил, улыбнувшись, актер. И с некоторым оттенком горечи прибавил: — Иногда приходится ехать и помимо желания. Но, — тут он снова улыбнулся, — в конце концов путешествия ведь лучшее из того, что вообще есть на свете.
— Лучшее? — Журналист пристально взглянул на Чехова. — А ваша игра?
В упор поставленный вопрос требовал прямого ответа. Михаил Александрович смешался.