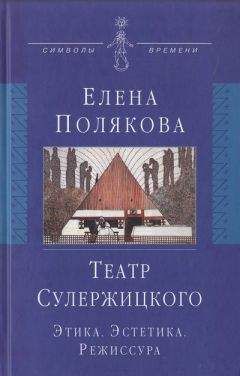Взять, к примеру, «Рапсодию». В картине играют Элизабет Тейлор, Михаил Чехов и один из самых прославленных актеров итальянского театра — Витторио Гассман. Но посмотрев фильм, убеждаешься, что Гассман не отдал «Рапсодии» ничего, кроме доброго имени, и что Михаил Чехов устало снимается в манере «слезы радости блеснули в суровых глазах старого профессора музыки».
«Одна картина отличается от другой примерно так, — писал советский журнал «Искусство кино», — как одна фордовская модель от другой: есть разные годы выпуска, есть образцы с радиоприемником и зажигалкой, есть образцы с зажигалкой, но без радиоприемника, есть с радиоприемником, но без зажигалки... Повторяются декорации. Повторяются положения. Повторяются приемы. Грандиозный успех героя «Рапсодии» (скрипача. — А. М.) и грандиозный успех героя «Великого Карузо» (певца. — А. М.). Друзья взволнованно суетятся за кулисами — в одном фильме и в другом. В одном фильме и в другом примерно в сходном ракурсе снят роскошный зал. Мужчины и женщины в вечерних туалетах. Взаимные овации. Рукоплещущие друзья расступаются — сейчас герою будут предлагать умопомрачительный ангажемент. Слезы в суровых глазах профессора, которого играет Михаил Чехов. В фильме «Великий Карузо» успех героя переживает менее известный исполнитель, но зато сценарист добавляет краску: старый тенор Альфредо, открывший талант Карузо, оказывается, сам потерял голос. Так что слезы в суровых глазах вдвойне уместны».
Смотреть такие фильмы в обилии нестерпимо, хотя в «Рапсодии» звучит музыка Чайковского, а у Марио Ланци, занятого в «Великом Карузо», в самом деле несравненный голос. Нестерпимо потому, что в продукции такого рода от участников ее, как от художников, совершенно ничего не требуется, кроме известного профессионального умения. Нестерпимо потому, что тут искусство унижено в основном своем достоинстве. Потому что и искусством это назвать по праву нельзя, ибо тут чистейшей воды коммерция. Полная безыдейность. Сознательный уход от подлинной жизни как предмета творчества. Безобразный расчет на зрителя, который не ждет от искусства ничего, кроме пустячного развлечения на часок. Желание пристрастить его к киноштампам, как к жевательной резинке: не питательно, но привычно...
Так считает критик. Правильно считает.
Чем больше приходится Михаилу Чехову сниматься в таких фильмах, тем все больше растет в нем щемящая грусть о потерянном — о Родине, о русском искусстве. Он живо интересуется всем, чем живут художники в Советском Союзе. Не упускает ни одной возможности узнать, услышать, познакомиться с работами советских кинематографистов.
Снимаясь в Голливуде, он одновременно трудится над книгой «О технике актера» и ищет случая поделиться мыслями, которые его посещают при этом, с теми, кто работает в России и кому он больше всего хотел бы передать свой опыт. Он пишет письмо во Всесоюзное общество культурной связи с заграницей. Письмо датировано 31 мая тысяча девятьсот сорок пятого года и обращено к советским киноработникам.
«Дорогие друзья, — пишет Михаил Чехов. — На днях я был приглашен на просмотр фильма С. М. Эйзенштейна «Иоанн Грозный» (1-я часть). Это третий или четвертый советский фильм, виденный мною за последний год. Позвольте мне, как человеку одной с вами профессии, высказать несколько мыслей по поводу вашей в высшей степени необычайной работы. Если бы я был среди вас, я непременно вызвал бы вас на собеседование. Почему же не сделать этого письменно?»
Одной из положительных сторон «Грозного», как и других советских фильмов, Чехов считает их четкую, ясную форму, как в постановке режиссера, так и в игре актеров. «Нет другого театра на свете, — заявляет Михаил Чехов, причем ссылается на свое знание театров Европы и Америки, — который так ценил бы, любил и понимал форму, как русский. Эта положительная сторона ваших фильмов имеет, однако, и свою отрицательную сторону: форма у вас не всегда наполнена содержанием».
Чехов ссылается на книгу С. Эйзенштейна, с которой он познакомился в английском переводе. Там, говоря о монтаже, советский кинорежиссер выдвигает задачу не только логически связанного, но и максимально взволнованного рассказа. «Вот этого «максимума эмоции», этого живого, «стимулирующего» максимума чувства мне и не хватает, — говорит Чехов. — Впечатление такое: актер слишком хорошо знает, что он играет, знает в ущерб своему чувству. Он знает, что тут он гневается, тут ревнует, тут боится, тут любит, но не чувствует этого. Он думает, что чувствует, и обманывает себя этой иллюзией». Между тем, твердо верит Михаил Чехов, «чувство в театральном искусстве — ценнее мысли, а при четкой форме, как в «Грозном», оно получает первенствующее значение: он должен подняться до нее своими чувствами, не только одним пониманием, не только мыслью». Он оговаривается при этом: «Я не говорю: актер не должен мыслить, нет, но он не должен засушивать размышлениями свою роль. Мысль актера — фантазия, а не рассудок».
Настойчиво, горячо, заинтересованно продолжает он развивать свое соображение о том, что чувство актера не только наполняет форму, но и оправдывает ее. «В замысле Эйзенштейна много огня и силы, далеко превышающих психологию обыденной жизни. Он задумал трагедию шекспировского размаха, — пишет Чехов. — Так она и доходит до нас зрительно. Возникает вопрос: неужели нет у русского актера этих шекспировско-эйзенштейновских чувств, огня и страстей? Конечно, есть». Тут он повторяет: «Скажу снова: ни у одного актера в мире нет таких сильных, горячих, волнительных и волнующих чувств, как у русского. Но их надо вскрыть, надо научиться вызывать их в себе по желанию, надо тренировать большие чувства, чтобы стать трагическим актером».
Скрупулезно, шаг за шагом разбирает далее Михаил Чехов игру актеров в фильме. Разбор идет строгий, но честный: художник разговаривает с художниками.
Без желания задеть кого-нибудь, но и без присюсюкивания. Затем он заключает свое письмо:
«Я позволил себе входить в такие профессиональные подробности потому, что ваша постановка и игра, сопровождаемые изумительной музыкой Прокофьева, произвели на меня большое впечатление и взволновали меня. Вы, русские актеры и режиссеры, первыми повели фильм (М. Чехов, конечно, имеет тут в виду кинематографию. — А. М.) по пути к большому, достойному нашего времени искусству. Нет сомнения, что ваша работа своей новизной и смелостью испугает страны, лежащие на Западе от вас. Много упреков, справедливых и несправедливых, услышите вы. Но это не страшно: вы умеете быть бойцом во всем. Страшно одно: ошибки в самом процессе вашего творчества. Мне, человеку одной с вами профессии и вместе с тем объективному зрителю, легче увидеть их издали, чем вам самим. Мое желание — вернее, надежда — быть вам полезным было моим единственным побуждением, когда я писал эти строки».
И в самом конце, как вывод. Не только из сказанного, но из всего увиденного, пережитого и понятого в жизни:
«За ваши смелые эксперименты, искания и честность в работе вы заслуживаете глубокую благодарность. Вы находитесь в привилегированном положении: вы не знакомы с коммерческим фильмом, где «business»19 — все, где слово «art»20 заменено словом «job»21. Но вы достойны вашего положения, ибо вы пользуетесь им как пионеры — для прогресса других. От вас прозвучит новое слово. Вы и никто другой дадите Западу урок правды в искусстве и изгоните из его сферы и «business» и «job».
Искренне благодарный Вам Ваш почитатель
Михаил Чехов».
Когда Михаил Александрович писал это письмо, было ему пятьдесят четыре года. Только пятнадцать лет из жизни на сцене пришлись на долю Москвы, где в общении с великими мастерами русского театра развилось, окрепло и достигло своего зенита его искусство. В Москве он сыграл Калеба, Фрезера, Эрика, Мальволио. В Москве, достигнув вершин, которые доступны немногим, он создал незабываемые, по праву поставившие его в первый ряд актеров отечественного театра образы Хлестакова, Аблеухова, Гамлета, Муромского. Затем он уехал на Запад, где думал найти больше свободы для творчества, чем на Родине.
И вот уже семнадцать лет он живет и работает на Западе. Семнадцать лет! То есть дольше, чем в Москве, куда приехал совсем молодым, по сути дела, начинающим актером! А создал? Ведь и «Потоп», и «Эрик XIV», и «Двенадцатая ночь», и «Ревизор», и «Гамлет», в которых он имел успех за границей, были созданием московского периода. Что еще можно отнести в актив? Ни Скайд, ни Юзик, ни князь из «Феи», сыгранные у Рейнхардта, ни парижская затея со «всеобщим театром», реализованным в спектакле «Дворец пробуждается», ни даже Фома Опискин в рижском спектакле «Село Степанчиково» в уровень с его былыми московскими достижениями стать, конечно, не могли. И нью-йоркские «Бесы» тем более. Остается Иоанн Грозный в трагедии А. К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного». И это за семнадцать лет!