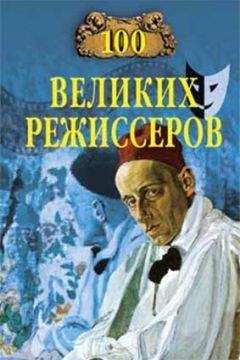А что важнее жизни?
Только Алиса. Она тоже страдала из-за Якулова и убеждала, убеждала Александра Яковлевича, что ему необходимо перестать страдать, Жорж прекрасно бы его понял, надо как можно скорее организовать перевозку тела в Москву, провести панихиду и вернуться к делам. Ее очень тревожит его инертность. Если это связано с Жоржем, она понимает, ей и самой грустно, а если это что-то другое, то пусть он позволит ей в такие скорбные минуты сказать правду: нельзя поддаваться отчаянию, думать только о себе, провалы необходимы художнику настолько же, насколько и победы.
Сколько было ошибок у Станиславского, пусть он не обижается за сравнение, Немирович открыто говорит, что почти всё, поставленное во МХАТе Константином Сергеевичем, — одна сплошная ошибка.
Ей не хочется говорить о других, невозвращенцах, способных, сидя за границей, требовать прислать им собственные театры. Она имела в виду Мейерхольда — тот действительно застрял за границей, и все торговался, торговался с советской властью. Но это был торг со своими, при чем тут он, Таиров?
— Надо думать о Камерном, — сказала Коонен. — Ты без него пропадешь.
Она безусловно была права, но, даже слушая ее, он думал только об Якулове и еще о том, что даже карнавал умирает, вот кажется, кому-кому, а карнавалу прежде всего обещано бессмертие. А он умирает. Хорошо, что спектакли удалось сохранить. «Жирофле-Жирофля», «Брамбиллу», «Розиту».
Надо создать комиссию, опечатать мастерскую, все изучить и обязательно сделать музей, вряд ли ему откажут открыть музей Якулова в его мастерской. Он готов даже при театре.
Есть что выставить, столько станковой живописи, театральных эскизов, костюмов, наконец, памятник двадцати шести бакинским комиссарам, макет которого демонстрировался год назад в Москве.
Конечно, откроют, надо только объяснить его ценность, вот это, пожалуй, самое трудное. Чем уж так обязано ему социалистическое строительство, что он привнес в действительность, разве что минуты радости.
Но как их предъявить?
— Я все понимаю, — сказал Таиров, — я знаю, как всё это сделать побыстрей.
Дела Якулова были в большом расстройстве. Год назад он успел оформить у Дягилева в Париже «Стальной скок», был весел, они встретились в Париже, вчетвером, вместе с Прокофьевым гуляли по Монмартру, и он демонстрировал в тире, как ловко умеет стрелять, еще бы — георгиевский кавалер, а уже потом он встретил его в Тифлисе, совершенно беспомощного, больного, какого-то непривычно нудного, говорящего только о своих бедах.
— На тебя, Саша, одна надежда, — повторял он, — только на тебя.
А что мог сделать Таиров, когда на бедную голову Жоржа свалилось всё сразу? Наталью Юльевну по-прежнему не пускали к нему из ссылки, где она находилась за связь с какими-то темными махинаторами, мастерская была запущена, заказов мало.
Он метался по Кавказу среди своих, что-то зарабатывал и очень сильно пил.
А потом, уже из сухумской больницы, просил Таирова, чтобы тот похлопотал и о Наталье Юльевне, и о пенсии, ему необходимо отдохнуть этот год, нет сил.
И Таиров обещал и даже начал хлопотать, но собственные неприятности несколько отвлекли от Якулова. И теперь он казнил не только других, но и себя.
«Во имя Якулова и памяти о нем — внимание к живым», — писал он в некрологе.
Потом, конечно, все было — и речь Луначарского на панихиде, и похороны на Новодевичьем, и неразбериха через несколько лет, когда он сам не мог вспомнить, где, на каком участке могила, а в дирекции кладбища вообще утверждали, что такой могилы и не было, актов регистрации нет, пока не обнаружили, что штамп стоял на обратной стороне листа.
Последняя шутка Жоржа Великолепного, как называли Якулова друзья.
Два человека торопились в театр. Надо при этом учесть, что один из них вообще не любил торопиться. В театр вместе они ходили редко, книги писали, да, но чтобы в театр? А тут вместе. Да еще с женами.
Поход в театр можно считать вынужденным мероприятием, служебной командировкой. Кольцов просил написать рецензию для «Чудака», а рецензии на спектакли они писали с неохотой. И, по правде говоря, театры не так уж и любили.
Конечно, если это был Художественный или Большой и там давали что-то не унижающее человека, они смотрели с удовольствием.
Но все-таки театр был одним из мест, отвлекающих от работы.
А они писали вместе. Во-первых, любили писать; во-вторых, этим и кормились.
Просьба Кольцова дать рецензию на Камерный их не удивила, Камерный сильно били, сначала за левидовский, потом за булгаковский спектакли, надо было поддержать. Кольцов, Левидов, Булгаков — совсем неплохая компания.
Конечно, за всем маячила тень Луначарского, чрезвычайно внимательного к Камерному, но почему выбрали именно их? Не так уж они и разбираются в театре. А если будет смешно? Они ужасно боялись, что будет манерно до смешного и придется уйти после первого акта. Врать, что понравилось, даже ради Кольцова, они не собирались.
Они очень уважительно относились к Мейерхольду, но в театр к нему тоже ходили с осторожностью. Театр им казался сектой, и они боялись быть втянуты в какую-то непонятную эстетическую борьбу, представляющуюся им менее актуальной, чем строительство социализма.
Они не считали себя слабонервными, но страсти вокруг театра их пугали.
Театр их детства был прост и очарователен. Он хотел только одного — зрительской любви. Для этого он не позволял себе играть плохо и выпускал на сцену только хороших артистов. Так им, во всяком случае, запомнилось.
Многих людей в Одессе сделал именно театр — хороший провинциальный театр. На всю жизнь они попадали в разряд фанатических поклонников театра, иногда даже драматургии, такие как Валя Катаев, а это неизбежно было связано с расширением круга жизни — с пьяными компаниями, актрисами, лишними знакомствами, и страшно мешало работать.
Но сегодня дело было в другом. Речь шла о жизни целой группы людей, именуемых работниками Камерного театра. Требовалось их поддержать.
Таиров был человеком симпатичным, но абсолютно чужим. Приятно было только то, что он никому не навязывался, в душу не лез, вел себя деликатно, и становилось особенно неловко, что спектакли Камерного театра им не нравились совсем.
Это были абсолютно чужие спектакли, и такие, с их точки зрения, стерильно чистые, что не имели ни запаха, ни вкуса.
Таиров считался эстетом, что, честно говоря, было противно. В отличие от него они могли бы называться пижонами. Пижоны и эстеты — фигуры несовместимые. Им даже в одном трамвае оказаться невозможно.
А тут — приход в театр и просьба написать о нем статью.
Наверное, что-то такое происходит в мире, если даже такой политичный человек, как Кольцов, попросил написать.
Придя в театр, сдали вещи в гардероб под щебет жен, прошли в фойе и неожиданно успокоились. Им здесь понравилось, и не надо было даже искать подтверждение этого друг в друге.
Беспокойство куда-то делось, здесь было совсем иначе, чем на улице, никуда не хотелось торопиться. Во всем чувствовались вкус и терпение, хозяин у этого места был, и очень внимательный к людям хозяин.
Они почувствовали себя в своей тарелке. Но так как обнаруживать смешное было не только их профессией, но и мучительным свойством души, они почти одновременно придумали фразу о тени великого эстета Оскара Уайльда, фланирующего по театру где-то рядом с ними.
Конечно же в этом был и газетный штамп, о Таирове было принято писать как о западнике. Билеты на его спектакли чаще всего скупали интуристы, они же считались главными поклонниками Таирова.
Соавторы огляделись и заметили, что этих самых интуристов в театре оказалось немного. Публика в основном пролетарская, не самая простая, нагловатая, слегка распущенная, но все же пришибленная строгой роскошью фойе публика, и от того еще более родная.
Выплыли где-то рядом с буфетом несколько иностранных фраз, что-то хмуро объяснял переводчик, но в основном ропот стоял свой, московский.
Это стало вкусным и хорошим прологом к спектаклю.
Пора было получать само впечатление. И они его получили.
Прежде всего им стало ясно, что никакой пародии на Запад Таиров показывать не собирается. Возникший перед ними мир на сцене меньше всего напоминал кривые модернистские линии западного спектакля.
Это был настоящий город, только разный — для белых и черных. Белым пел свой певец, он находился на одной стороне сцены, черным — другой. Сама идея понравилась, сладкие голоса исполнителей — не очень. Куда-то глубоко-глубоко уходила перспектива одной из улиц, становилось любопытно, что происходит в самом конце ее, но туда невозможно было заглянуть. Другая же улица, белая, шла прямо на них, и на перекрестке в шарики играли дети, они толкали друг друга и ругались, а в конце даже передрались, но зато среди их совсем не детских уличных забав успел возникнуть интерес черного мальчика Джима к белой девочке Элле, и действие завертелось, началось.