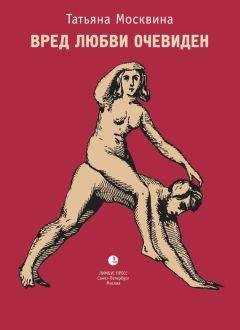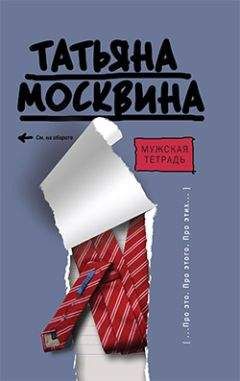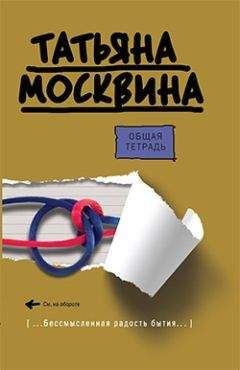– Светский человек, привык отшучиваться, это же не значит, что он так и думает.
– Скажу так: Уайльд нам основания для подобной трактовки не дал, но если зритель получает сложное впечатление от образа, прекрасно.
– А мы, русские, иначе не могём! Недавно посмотрела «Филумену Мартурано» в Малом театре, с Муравьевой и Соломиным. Ну что нам эта Филумена. Хитрая, подлая средиземноморская стерва. А Ирина Муравьева – честная, горячая, набожная русская женщина. Вот всё и поворачивается в пьесе совсем иначе. Поэтому странно было бы нам просто смотреть на Олега Меньшикова, который ходит по сцене, говорит афоризмами и молодых людей с толку сбивает, что-то еще должно стоять за этим, какая-то человеческая история…
– Ну да, ну да. Понимаю.
– У меня от этого спектакля впечатление, что от земли уже оторвались, а взлететь еще не взлетели, довольно громоздкая структура у «Портрета Дориана Грея», хотя и очень интересная. Впрочем, невозможно лететь от победы к победе и нельзя этого требовать ни от артиста, ни от театра. Какие у тебя, кстати, отношения с критикой?
– У меня? Никаких. Я ее не очень знаю. Мне известны какие-то фигуры, которые считаются одиозными, «серыми кардиналами» московской театральной жизни – я думаю, это чересчур, ни на что эти фигуры влиять особо не могут. Повлиять серьезно на театральный процесс? Нет, ни в коей мере. А с появлением Интернета, мне кажется, театральных критиков вообще стали мало читать, обсуждение в Сети для людей интереснее, чем мнение критика Н. в какой-то газете. Мне кажется, и сами критики должны понять, что если театру нужны новые формы, то, увы, они нужны, ребятки, и вам.
– Значит, ни пользы, ни вреда театральная критика тебе принести не может.
– На сегодняшний день – да. Я даже упразднил в театре доску, где вывешивают рецензии и прочее, этого уголка прессы в театре нет вообще.
– Во всех театрах вывешивают.
– Знаем мы, как они вывешивают, по заданию руководства – это давайте, это нет. А по-моему, если уж вывешивать, то всё, не вывешивать – ничего. Значит, вот вам столик, экранчик, клавиатурочка – вперед, читайте, сколько влезет.
– И как актеру тебе критика не полезна и не вредна?
– Давно уже неинтересно. Я знаю, что за роль Тарасова в «Легенде № 17» меня хвалили, но я практически разве полторы рецензии прочел, потому что мне режиссер картины Коля Лебедев показал – вот, посмотри, что про тебя пишут. А уж, казалось бы, вот повод отдохнуть после всего дерьма, которое я за последнее десятилетие про себя прочитал, вот возможность самоутвердиться. Нет, неинтересно, правда.
– Какой, однако, характерище воспитал в себе человек…
– Воспитали!
– Действительно, редкий случай, твоя актерская работа в «Легенде № 17» вызвала массовое одобрение даже в злобном Интернете, где кишат вариации героя Достоевского из «Записок из подполья», гениальное прозрение автора – потому что «человек из подполья» это, разумеется, человек из Фейсбука. Я спрашивала Николая Лебедева, что Меньшиков, как он это все обладил, читал ли про Тарасова, изучал ли, – он ответил: «Не знаю, он такой таинственный»…
– Рассказываю: ничего не читал, посмотрел два фильма документальных, с дочерью, Татьяной Анатольевной, пытались мы разговаривать раза два. После премьеры она сказала мне такие слова, что мне их и повторять неудобно… Когда несколько лет назад мне предложили почитать сценарий на студии «ТРИТЭ», я ответил – мне тут играть нечего, роль тут одна, Тарасова, больше нет ролей. Я тогда был уверен, что они возьмут – царство ему небесное – Богдана Ступку, кого-то из подобных мощных артистов. И забыть-то про всё забыл, хотя сценарий мне понравился. Через некоторое время звонит продюсер Верещагин и говорит: не хочешь ли Тарасова, давай встретимся. И это тот случай, первый раз со мной в жизни – я знал, что такое существует, но первый раз это случилось со мной, – меня повела роль. Я обычно, в принципе, «головастик», я сижу, придумываю эпизод от начала до конца, всё разбираю, идет работа, извините, ума. Тут я мог себе позволить не думать об эпизоде, я приходил на съемку и шел в кадр.
– Мистическая история! Прямо «вселение образа»!
– У меня первый раз такое. Калигула – да, он меня вёл, но там был мастер, Фоменко, а здесь не знаю, кто меня вел, но кто-то вел.
– Кстати сказать, в конце восьмидесятых годов у тебя было, кроме Калигулы в режиссуре Фоменко, несколько отличных работ в кино – «Моонзунд», «Лестница». Ты помнишь эти фильмы?
– Больше помню «Моонзунд» по одной простой причине: не так давно увидел диск и купил, поскольку картину видел давно, а Настя вообще не видела (Анастасия – жена Меньшикова. – Т.М.), решил пересмотреть, хотя ненавижу пересматривать свои фильмы.
Помню, что у меня тогда была страшная язва желудка, я похудел килограммов на восемь (причины романтической бледности героя выяснены! – Т.М.). Постоянные были переезды из Москвы в Ленинград, я тогда что-то репетировал у Фокина в ермоловском, кстати, театре. Решил пересмотреть, тем более «Моонзунд» постоянно возникает в разговорах; Нина Петрова, продюсер, рассказала мне, что ей Гришковец нахваливал меня, что вон Меньшиков как здорово сыграл морского офицера, он же сам у нас моряк, Женя-то.
А фильм «Лестница», я считаю, несправедливо забыт вообще, вот – нет такого фильма. Хотя я знаю, что Лена Яковлева какой-то приз получила, да и вообще Сахаров был неплохой режиссер, и сама история там занятная. Я даже не знаю, шел ли он на экранах. Ни разу не видел его в программах телевидения. О нем воспоминаний у меня как-то меньше, сюжет спроси меня – я не скажу. Помню, я стою над речкой сначала и пытаюсь утопиться или думаю об этом, и дальше происходят какие-то чудеса в квартире.
– Как ты попал в «Моонзунд»?
– Не знаю. Меня самого удивило предложение такой роли – морской офицер… А! знаю. Я не всегда был Костиком из «Покровских ворот». Я свою первую роль, серьезную драматическую роль, сыграл в картине «Жду и надеюсь», мне было восемнадцать лет, и я оказался партизаном, который жертвует жизнью, чтобы спасти партизанский отряд и вообще повлиять на ход Великой Отечественной. Саша Муратов, режиссер, видел эту картину и запомнил мою фамилию, вызывал на пробы.
– На реальных военных кораблях снимали?
– Конечно, там же видно, особенно когда мы стоим с Клюевым на палубе, что всё по-настоящему.
– Тебя увлекало, что носишь морскую форму, что ты – офицер Русской империи?
– Какого пацана это могло не увлечь, тем более тогда, когда хлебом не корми – дай поиграть в белых офицеров, думали, что уж вот они были люди безупречные…
– Потом эта иллюзия развеялась. Один умный человек утверждал, что если бы победила в Гражданской войне Белая армия, все равно потом пришлось бы строить лагеря для усмирения масс.
– Конечно. Как страну всколыхнули… Глупости говорят, что народ заставили сделать революцию. Как можно народ – заставить? Народ был к этому абсолютно готов, убивать, грабить награбленное, абсолютно готов и счастлив от этого. Не одни, так другие строили бы лагеря. К сожалению, мы были обречены.
– Но в тот момент, что взят в картине, во время Первой мировой, войны с немцами, была и чистая героика. Я люблю повторять одну фразу из фильма, когда к герою, командующему окруженной батареей на мысе Церель, приходят враги и требуют капитуляции. А он отвечает: «Церель будет драться».
– Там еще есть хорошая фраза, когда персонаж Караченцова подходит к моему Артеньеву и предлагает выпить, а тот отвечает: «Смерть, как и рождение, акт возвышенный. Пить не буду».
– Роль понравилась, играл с удовольствием?
– Я тогда еще где-то на Ленфильме снимался и по молодости не придал особого значения, хотя роль мне нравилась – но я никогда и не делал того, что мне не нравилось. А Саша Муратов монтировал и вдруг с каким-то удивлением говорит – знаете, выстраивается очень интересный образ, может быть, вы даже хороший актер… Я ловил на себе его взгляды посреди картины и видел его растерянность по отношению ко мне, он сомневался, прав ли он, взяв меня на эту роль. Но вот слава Богу удалось доказать, что все правильно.
Мне и сценарий «Лестницы» понравился, и режиссер Сахаров – такой большой, добрый. Он был из той категории режиссеров, которая сейчас исчезает. Он, может, не взлетал высоко, по другим планетам не шастал, но так знал свою профессию, что работать было одно удовольствие. Сейчас таких нет, сейчас мы все летаем.
– Как – летаем?
– Ну, думаем, что летаем, а профессии не знаем.
– И в «Моонзунде», и в «Лестнице» есть мироощущение «на грани», предчувствие большого грядущего распада. Но при всей тоске и странности этого кино – оно еще внятное, добротное, неплохо придуманное. Последнее советское кино, советский «декаданс». А как ты относишься к советскому кино?