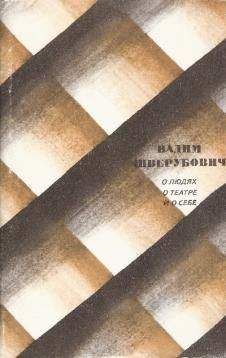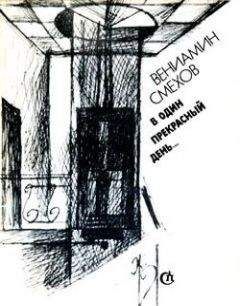1920 г., 10‑го августа. Боржом.
Представитель труппы И. Берсенев»
После волнений этого собрания, чуть передохнув, приступили к совещаниям по репертуару. М. Н. Германова услышала, что опять возникает разговор об «Осенних скрипках» («этой дешевке и пошлятине», как она говорила), и подняла разговор об андреевской «Екатерине Ивановне», которая, с точки зрения труппы, была не намного лучше. Вкус публики тогдашнего Тифлиса котировался не очень высоко, считали, что успех должны иметь именно пьесы такого сорта. «Екатерину Ивановну» все же провалили; оставили для осеннего сезона «Осенние скрипки» и начали их потихоньку репетировать. Решили продолжать репетиции «Потопа» и в план дальнейшего расширения репертуара внести «На дне» и «Три сестры». Распределение «На дне» было простым — не хватало только подходящей Василисы. Решили пробовать Греч, но, не надеясь на то, что это будет хорошо, решили подумать и о варианте: Книппер — Василиса, Греч — Настёнка. Остальное все было ясно.
Большие волнения были с «Тремя сестрами». Все распределялось очень хорошо, остро стоял только один вопрос: кому играть Ирину. Несомненной и ясной не было. Начался бой. Массалитинов и сам и через преданных ему людей выдвигал на эту роль свою жену Катрусю (Краснопольскую).
Берсенев, думая, что для успеха спектакля важнее всего, чтобы Ирина была красива, выдвигал Орлову. Ольга Леонардовна и Нина Николаевна утверждали, что наиболее чеховской, мягкой, лишенной всякой вульгарности является Крыжановская.
Мнение Ольги Леонардовны (признанной хозяйки всех чеховских спектаклей) было бы решающим, тем более что с ней была полностью согласна Литовцева (назначенная режиссером спектакля), если бы совершенно неожиданно за Краснопольскую не встала горой Германова. Мы и тогда не понимали, а уж теперь я и постигнуть не могу, что могло повлиять на эту умную и тонкую женщину, обладавшую большим вкусом и культурой, чтобы она поддерживала на роль Ирины неподходящую актрису. Может быть, просто это было актом своеволия против Ольги Леонардовны, которая, по мнению Марии Николаевны, слишком уж стала хозяйкой дела (она была обижена, что «Екатерине Ивановне» предпочли «Осенние скрипки»), — не знаю, но тут уже и Василий Иванович высказался (а он не любил высказываться) и предложил конкурс всех трех.
Двадцать третьего состоялся показ трех Ирин. Я был всей душой за Машеньку Крыжановскую и торжествовал — большинством голосов утвердили ее.
Размножили роли, и мать начала готовиться к режиссерской работе. Мизансцены все помнил Василий Иванович: ведь он играл в этом спектакле две роли — Тузенбаха и Вершинина. Ольга Леонардовна помнила только свои мизансцены, а все остальные знала смутно, путалась, ошибалась, сбивала с толку других и, когда с ней не соглашались, сердилась и очень мило и смешно обижалась, но очень ненадолго.
Возможность вновь иметь в репертуаре группы любимую пьесу и репетировать одну из своих лучших ролей доставила Ольге Леонардовне такую радость, такое счастье, что она долго сердиться не могла и репетировала с огромным удовольствием и с неутомимостью юной дебютантки.
Одновременно наш портной П. С. Бодулин под руководством И. Я. Гремиславского начал приобретать в Тифлисе все нужное для «Трех сестер» — шашки, шпоры, погоны, портупеи, шарфы, ремни, башлыки, фуражки, офицерские шинели, фуражку учителя и члена земской управы. Сшили у военного портного несколько офицерских сюртуков, мундиров, тужурок и брюк. Все это было страшно дешево — дореволюционное обмундирование никому не было нужно, а за работу старик военный портной брал сущие гроши: ему было приятно в конце жизни поработать на любимом поприще. Берсенев сам с ним договаривался, сказал ему: «Вы же (а потом уже и „ты“) наш», и «родной», и «дорогой», а потом сказал: «Дорого! Надо подешевле, ведь на кого шьешь-то? Ведь это же реклама на весь мир! Ведь в Париже, Берлине и Варшаве будет написано: военное обмундирование шил Генрих Уманский». Старик был из Гродно; спросил, будет ли группа в Гродно, — Иван Николаевич обещал, что будет и что там тоже на афишах будет его фамилия. Господин Уманский заплакал и взялся шить чуть ли не даром, да еще со своим прикладом…
Но в Тифлисе «Трех сестер» не сыграли, не успели.
Сезон в Тифлисе начали 7 сентября «Осенними скрипками». Эта пошлятина имела бурный успех, едва не затмивший успех «Лап» и «Карамазовых». Сезон этот был коротким, сыграли всего девять спектаклей и 15 сентября «Вишневым садом» простились с Тифлисом.
Спектакль прошел не только и не просто с успехом, это не то слово, а с надрывом — это был спектакль-прощание, спектакль-панихида, спектакль-поминки. Плакала публика, плакали мы все, плакали и работники театра — от дирекции до грека-сторожа и всех его детей от семнадцати до двух лет… Все знали, что мы уезжаем совсем, уезжаем за границу.
Для нас трагедия гаевского семейства — прощание с родным домом — была и нашей трагедией. Второй раз мы пускались в «бег». Но в первый раз, когда мы покидали родную землю, садясь на пароход в Новороссийске, мы там никого не оставляли — не было у нас ни родных, ни друзей, ни уюта-быта на берегу, от которого мы отчаливали. Была только война, кровь, грязь, тиф… Здесь же, в Грузии, мы покидали и друзей, и тепло, и любовь. Здесь впервые за все эти шестнадцать месяцев скитаний мы почувствовали какое-то подобие дома… Но главное — здесь мы ощутили, что настоящий дом — Москва — еще достижим, услышали властный и нежный зов Родины, почувствовали возможность вернуться и… оттолкнули эту возможность. Оттолкнули, может быть, навсегда.
Больше всех мучился Иван Яковлевич Гремиславский. Он очень любил своих стариков — Якова Ивановича и Марию Алексеевну, очень ощущал их тоску о нем и главное — о любимом их внуке Вале. Несколько раз он поднимал вопрос о том, чтобы все-таки остаться и ждать установления Советской власти в Грузии или, еще лучше, ехать в Баку, оттуда начинать обратный путь к Москве. Заколебались было и другие, но решился вопрос неожиданно и бесповоротно.
В Тифлис приехал полпред РСФСР, он пригласил к себе в особняк полпредства Берсенева и Массалитинова и посоветовал им, правда, неофициально, возвращаться в Россию только западным путем, через Латвию или Эстонию, но отнюдь не через Юг, только что ставший советским, — это было бы безрассудно. К этому добавилось еще одно обстоятельство: какая-то русско-итальянская фирма, которая собиралась делать фильмы где-то около Милана, предложила нашей группе контракт с 1 января 1921 года, по которому мы обязывались снять картину по пьесе «У жизни в лапах», а они выплачивали нам в иностранной валюте сумму, покрывавшую расходы по переезду от Батума до Софии, где мы должны ожидать второго взноса на дорогу от Софии до Милана.
Это было чрезвычайно соблазнительно: на грузинские деньги доехать до места за границей, где мы могли бы играть, было невозможно.
Двадцать седьмого сентября из Батума на Константинополь отходил итальянский товаро-пассажирский пароход «Тренто». Значит, до отъезда оставалось еще десять дней. Сидеть эти дни без дела было невмоготу, и через два или три дня после прощального спектакля в помещении Русского театра был организован «литературный суд» над Художественным театром. Это была очень интересная затея.
Группа вся вместе сидела на «скамье подсудимых», «прокурором» был кто-то из ведущих писателей, «председателем» — видный грузинский юрист, «защитником» — московский журналист и театральный критик Яков Львов. «Свидетелями» были русские и грузинские актеры. Двенадцать человек присяжных выбрала вся публика. Я плохо помню весь ход «судебного процесса», знаю только, что было интересно очень, иногда смешно — например, когда выступил «свидетель» Курихин — очень талантливый актер и конферансье театра «Кривой Джимми». Были и очень серьезные речи. «Допрашивали» ряд «обвиняемых» — они отвечали в меру своих сил и возможностей творчески. Ольга Леонардовна произносила похвалу Художественному театру словами Сарры из «Иванова», Массалитинов — словами Лопахина о маке и дачах и т. д. Последнее слово «подсудимого» было поручено Василию Ивановичу. Он построил его на перефразировке речи Брута, говорил о театральности, истинной, прекрасной театральности, во имя любви к которой была убита ложная театральность — «театральщина»: «Театральность была прекрасна, и мы любили ее, но она превратилась в театральщину, и мы убили ее. Пусть же этот кинжал…» и т. д.
После недолгого совещания присяжные вынесли вердикт, который признавал Художественный театр лучшим театром в мире.
Кроме этого «суда» в оперном театре состоялся еще персональный вечер Василия Ивановича. Это был грандиозный концерт в трех отделениях, в котором он читал и Гамлета, и Брута, и Антония, и «Листочки», и «Кошмар», и «Цикл о любви», в который входили стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Блока; читал «Сказку о рыбаке и рыбке» под музыку Черепнина, причем за роялем сидел сам Черепнин.