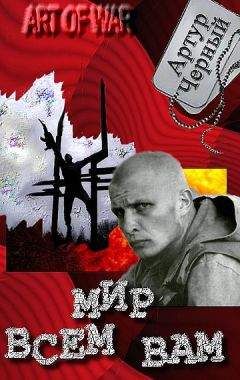Это внутреннее богатство всегда неуловимо ощущалось в Улановой с первого ее появления на сцене. С. Михоэлс говорил, что Уланова напоминала ему Комиссаржевскую: «Вера Федоровна несла с собой тему огромной неудовлетворенности, тоски, огромное чувство любви к человеческому миру, к человеческой судьбе. И когда Вера Федоровна — Лариса выходила на сцену, не произнося еще ни слова, вы уже чувствовали, что на сцене как бы появился целый новый мир. Для того чтобы пояснить это необычайное воздействие актрисы, приведу пример: как определить, есть ли живые существа на Марсе? Вопрос решается тем, есть ли атмосферная оболочка вокруг Марса, есть ли на нем, чем дышать живому существу. При наличии атмосферной оболочки там возможно появление жизни. Точно так же и здесь Вера Федоровна еще не произнесла ни одного слова, а уже чувствовалось, что появилась планета с атмосферной оболочкой. Вы могли немедленно сказать: здесь, на этой актерской планете, есть жизнь, есть огромный идейный мир, который появился вдруг на сцене».
Так и Уланова — это «планета» со своей «атмосферой».
И у нее был свой мир, своя тема, которая проходила через все ее роли, озаряла их светом ее личности. Она говорила об этом, как всегда, очень просто: «Все мои партии имеют в общем и разное и одно лицо… Я во всех своих ролях провожу какую-то единую линию. Не знаю, насколько она у меня получается в них, но я придерживаюсь какой-то большой глубины человеческих чувств, отношений, самопожертвования — ради большого, глубокого, чистого и честного».
Эта «единая линия» Улановой, ее тема всегда доходила, всегда волновала. Вот как формулировал свои впечатления после «Ромео и Джульетты» С. Образцов: «Я думаю о том, как прекрасно Джульетта — Уланова сумела передать большую, самоотверженную человеческую любовь. Как сумела она убедить весь зрительный зал, что только такая любовь имеет цену, что только так стоит любить, что человек, знающий такую любовь, — богач».
Уланова говорит о своих ролях без всякой экзальтации, избегая громких и пышных слов. Ее замысел всегда прост и ясен. Но в беседе с ней начинаешь понимать, как тщательно обдумана ею каждая, самая мельчайшая деталь танца, сценического поведения, костюма. Все, что она делает на сцене, глубоко осознано. Обязанности, налагаемые искусством, для Улановой священны, и она выполняет их неукоснительно и безупречно.
Улановой в юные и зрелые годы всегда были свойственны строжайшая самодисциплина, редкое умение самым решительным образом отгородиться от суеты, от мелких забот тщеславия, от всего, что мешает труду, утомляет, рассеивает. Она избегает ненужного расходования сил, умеет сохранять их, сосредоточивать и отдавать главному, то есть своему искусству.
«…Талант балерины Улановой — это страсть к труду, великая преданность труду. Талант Улановой — это одержимость трудом, — писал Завадский. — Я не знаю художника, которому бы более, чем Улановой, пристали слова: „служение искусству“… „Я все взяла трудом“, — так скромно (и так, в сущности, несправедливо по отношению к своему таланту) говорит о себе Уланова.
…Открывается сезон в Большом театре. И вот в начале сезона класс полон балетными актерами. Среди них и наравне с ними занимается Уланова. Минуты, проведенные у станка, складываются в часы, дни, недели… Какой силы воли требует этот постоянный тренаж, эта нескончаемая борьба художника за власть над своим телом! И у каждого ли есть эта сила воли, эта преданность труду?
Проходят месяцы. Миновала зима. И неуклонно редеют ряды танцовщиц и танцовщиков в классе. Вот уже их пять. А потом двое — Асаф Мессерер, педагог, и Галина Уланова… Идет репетиция. Уланова — раскрасневшаяся, мокрая, в стареньком рабочем хитоне — стремится, чтобы была точно отработана каждая танцевальная фраза, каждая деталь.
Не вышло… В чем же дело? Надо понять причину. Еще раз. И снова неудача.
— Нет, сегодня не выйдет, устала. — Галина Сергеевна, остывая. прохаживается по залу. И вот: — Давайте еще раз попробуем. Последний. — И опять что-то не получается. — Довольно, не могу больше. Не выйдет. Трудно даже ходить… Ну, еще раз, последний.
И так до тех пор, пока не получится, пока не выйдет…
Беспощадность Улановой к себе, художническая честность ее — удивительны. Я помню одну из оркестровых репетиций, на которой дирижер, подлаживаясь под балерину, желая облегчить ей выполнение танца, едва заметно замедлил аккомпанемент оркестра.
— Зачем вы замедляете темп? Играйте так, как написано! „Без музыки нет искусства“. И балетное искусство для Улановой — это подчинение себя музыке, это умение выражать через танец музыку.
Труд в классе. Труд на репетиции. Труд на спектакле. Труд везде и всегда.
В день выступления Уланова по-особенному сосредоточенна и отрешена. Вот она сидит и размышляет, мысленно просматривая и переживая события спектакля. Уланова долго выбирает туфельки, проверяет крепость лент, примеряет их. Вот она по давней балетной традиции обшивает носок туфельки суровыми нитками, чтобы не поскользнуться в танце. Вот отставляет работу и снова погружается в раздумье…
Заканчивался спектакль… Медленно и трудно остывала Уланова. Разгримировывалась, принимала душ, переодевалась. А дома — нет ни кровинки в лице, — усталость, усталость, усталость… Вот только что она казалась невесомой, словно сотканной из воздуха. Только что сияющая, со смущенной улыбкой, по-девичьи стыдливая, благодарила зрителей. (Кто не помнит этих удивительных улановских поклонов!) А дома — ножные компрессы, ноги в навернутой на них ткани, боль, которую причиняет каждый переход с места на место. И глаза — страдальческие, беспомощные. Кажется, жизнь ушла из Улановой. Усталость, усталость, усталость…
Но завтра — завтра снова класс, снова станок, у которого она будет работать — без устали и без пощады. И будет спрашивать статиста: какие вы можете сделать мне замечания? И будет внимательно слушать, непобедимая усталостью и болью» [40].
Балетмейстер Л. Лавровский, постановщик балета «Ромео и Джульетта», рассказывает: «Я не помню ни одного случая, когда бы Уланова пожертвовала ради чего-либо уроком или репетицией. Мне вспоминается, однажды мы встретились в гостях, небольшая группа людей. Было очень весело, настроение у всех было хорошее, мы все шутили, смеялись. Но вот наступила полночь. Уланова встала и стала прощаться: „Спокойной ночи“. Ее бросились удерживать, уговаривали, упрашивали не уходить, посидеть еще. Но ничего не помогло. Уланова ответила: „У меня завтра урок, после урока — репетиция, и я должна быть в форме“.
А ведь очень-очень многие из актеров знают, что у них завтра урок, репетиция, но… сегодня собралась чудесная компания, и я хочу посидеть до утра. А завтра буду спать до полудня. И погиб урок, погибла репетиция. С Улановой так никогда не было и не может быть.
Я не помню случая, чтобы она позволила себе опоздать на репетицию или хотя бы перед ее началом, в последнюю минуту, подшивать ленты у туфель. Если репетиция назначена в один час, Уланова в час стоит совершенно готовая, „разогретая“, собранная, предельно внимательная. И если кто-то приходит вялый, рассеянный, начинает болтать, у Улановой сразу сдвигаются брови, хмурится лицо, взгляд делается строгим и недовольным.
Эта замечательная дисциплина помогла Улановой и всем нам в трудной поездке в Лондон. Там было очень большое количество спектаклей, концертов, выступлений по телевидению, киносъемок. Труппа очень уставала. Но выносливость и воля Улановой служили для всех примером. Бывали моменты, когда молодые танцовщицы говорили: „Мы больше не можем, с ног валимся“. И тогда им отвечали: „А как же Уланова? Уланова может!“ И действительно, Уланова могла. И молодежь тянулась за ней, воодушевлялась ее примером».
Огромную нагрузку вынесла Уланова и во время последней поездки в Америку. Ей приходилось танцевать очень много, гораздо больше, чем обычно. Бывало так, что утром она танцевала Джульетту, а вечером — «Шопениану» и «Умирающего лебедя».
На вопрос, устала ли она, Уланова отвечает: «Нет. Нужно только привыкнуть к определенному режиму, отдавать все силы только работе, и тогда напряженный ритм труда как бы поддерживает, удваивает твои силы».
Труд Улановой не ограничивается репетициями и уроками.
Работая над ролью Марии в «Бахчисарайском фонтане», Уланова была увлечена не только изучением поэмы, но и всего творчества Пушкина, его эпохи, — всего, в чем живет и с чем связан его бессмертный образ.
Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок.
Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой;
Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит.
«В поисках образа Марии я нередко обращалась к царскосельской статуе, о которой Пушкин написал такие проникновенные строки, — писала Уланова. — Мне казалось, что, может быть, в поэтическом облике девушки, вечно печальной над вечной струей, я смогу найти те черты „Марии нежной“, которые так трудно передать лаконичным языком танца. Стихотворение „Царскосельская статуя“ написано Пушкиным в 1830 году, через восемь лет после „Бахчисарайского фонтана“. Но разве не мог перед мысленным взором поэта возникать именно этот чистый образ, когда создавал он свою бессмертную Марию? Так хотелось мне думать, тем более что все вокруг — изумительная царскосельская природа, искусные творения ваятелей и зодчих прошлого, — все помогало мне ощутить „безумную негу“ сладкозвучных фонтанов Бахчисарая»[41].