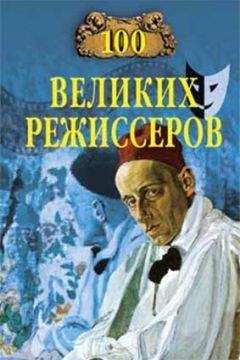Он снова подумал о Мурочке — как мало уделял ей внимания в Симбирске, да и потом мало, все-таки он был очень плохой отец.
Он ходил по городу и думал о чудесной девушке Оленьке Розенфельд, своей первой жене, о той, у которой было столько взято и ничего не возвращено.
Почему ему всё прощают, этого он никак понять не мог. Почему его окружают люди, не помнящие зла? За что такая счастливая судьба?
В Барнауле он начал ставить всё, что в разных городах страны ставили одновременно с ним другие эвакуированные театры. Это были рекомендованные, одобренные пьесы, единственные из которых полагалось знать о войне, это было необходимо фронту и тылу.
«Фронт». «Небо Москвы». «Пока не остановится сердце».
Это было что-то вроде микстуры, в день по столовой ложке. Как ни странно, она помогала. Это были спектакли надежды.
Здесь он впервые понял, что его умения пригодились — не мировому театру, не специалистам, не общему культурному прогрессу, просто людям, они приходили на спектакли, симпатичные, доброжелательные, заставляющие забыть о беде.
Здесь, в Барнауле, умер Шершеневич, незадолго до их приезда, он был сюда эвакуирован или сослан, кто сейчас разберет. И почти сразу же умер. Могила его находилась в лесу за городом, и Таиров, стоя над могилой, вспомнил, как Вадим бросился к нему на похоронах Есенина: «Какой ужас, какой ужас!»
По-видимому, он очень боялся смерти, не догадывался тогда, что она будет очень легкой — в полном одиночестве, когда все равно где жить — среди чужих или в земле.
Шершеневич был язвительно красноречив, легко обижал, легко просил прощения, но, в общем-то, несмотря на распри, оставался Таирову хорошим другом.
Какая разница, где поэту быть похороненным, в Париже, Барнауле?
Он не винил себя в смерти Шершеневича, ни в чьей смерти он себя не винил, но вот когда пришло известие о смерти Коли Церетелли, почувствовал себя негодяем. Алиса пыталась его успокоить, но он хотел только одного — не знать, не знать, вернуть всё назад.
Колю эвакуировали в Киров вместе с Театром комедии, Акимов взял его в труппу перед самой эвакуацией, вывез из блокадного Ленинграда.
Коля был страшен, все боялись, что его не удастся довезти, — неузнаваемый, беззубый, глубокий старик. В Вятке, куда его все-таки довезли, врач прочитала на больничной табличке «Церетелли» и спросила, не родственник ли он Николая Церетелли, знаменитого артиста, она была его поклонницей, еще когда существовал Камерный театр.
— Это я, — ответил Николай и в ту же минуту умер, поняв, что дожил до того состояния, когда его можно было не узнать.
— Не успокаивай, Алиса, как бывший главный режиссер бывшего Камерного театра я скажу тебе — это моя вина. Нельзя быть догматиком по отношению к таланту, нельзя требовать от всех одного и того же — дисциплины, дисциплины во что бы то ни стало, чтобы было неповадно другим. Проклятая профессия, ни себе, ни другим не дающая поблажки.
С того дня, как он узнал о Церетелли, боль совершенно замучила его. Вишневский прислал веселую комедию «Раскинулось море широко», он репетировал, а Богатырев с Алисой думали, как бы отправить его в Москву, здешние врачи ничем не могли помочь.
Он совсем не хотел уезжать, он собирался остаться здесь надолго. Глядя в зеркало, он находил в себе всё больше сходства с Яковом Рувимовичем, ему это нравилось, боль приближала к отцу.
— А я? — спрашивала Алиса. — Ты подумал, что будет со мной?
Он вспомнил, как в тот день, когда он выгнал Церетелли, шла в театре «Любовь под вязами». Он заменил его Чаплыгиным. В тот вечер Чаплыгин играл хуже Николая и, вообще, был актером хуже, неплохо он играл только негодяев.
Церетелли тоже не слишком соответствовал роли Ибена — слишком хрупок, слишком мил, слишком изнежен. С его особенностями Таирову часто приходилось бороться.
В Церетелли влюблялись все — женщины, мужчины. Вторым он отдавал предпочтение, и это было притчей во языцех в Москве, все обсуждали то, что не стоило обсуждать, это было только личным делом Николая Михайловича, особенностями его физиологии. Но приходилось, каким только компетентным товарищам не приходилось врать, что их впечатление от Церетелли ложное, его пристрастия, по советским законам, были наказуемы.
«Любовь под вязами» смотрел в Париже О’Нил и очень хвалил Николая.
Он ничего не заметил, он увидел своего героя таким, как его написал.
Таиров оценил тогда сделанное Церетелли очередное усилие обрести внешнюю мужественность на сцене, и сейчас, в Барнауле, вспомнив О’Нила, он преисполнился к нему такой благодарности за то, что сумел оценить Николая, за то, что всё сумел понять, и тут же начал писать О’Нилу письмо в Америку.
Видел бы его сейчас О’Нил — в валенках, обмотанного женским платком, при свете огарка, пишущего письмо в деревенской гостинице.
Их разделяла не война, нет, их разделяли судьба, происхождение, удача. Казалось бы, они могли быть похожи у режиссера и драматурга с мировыми именами, а вот получилось иначе.
И Таиров подумал, прислушиваясь к дыханию Алисы, — до чего же ей не повезло встретить его тогда в Эрмитаже у Марджанова в Свободном театре, вот кто достоин другой судьбы.
В этой перестроенной под театр церкви она все время болела, на месяцы выпадала из спектаклей, но соглашалась страдать, видя, как невозможно трудно ему репетировать, испытывая жесточайшие приступы. Она, непримиримая, капризная, соглашалась так жить, потому что забыла о том, что где-то бывает иначе.
Вот что значит долго сидеть в тылу, он бредит, какая другая жизнь, в мире идет война… Он не писал О’Нилу, что болен, что время требует его немедленного отъезда в Москву, что Алиса требует у него уехать из Барнаула ради будущего Камерного театра. Ничего этого он не писал, он обязан был оставаться прежним Таировым, неисправимым оптимистом.
«Дорогой О’Нил, — так или почти так писал он. — Сейчас, когда моей Родине трудно, когда трудно всему миру, я вспомнил ваше обещание написать для меня и Алисы еще одну пьесу. Пусть она будет пьесой о нашей совместной победе над фашизмом. Она нужна, и я верю, что с полной силой об этом можете написать только вы. А я поставить. Три ваших спектакля в Камерном театре ничем не скомпрометировали ваше имя. То же будет и с четвертым. Пожалуйста, напишите, пьеса очень нужна. С очень хорошим молодым прозаиком Паустовским я делаю сейчас пьесу об этой страшной войне. Главную роль играет Алиса. Эта будет пьеса об актрисе, у которой фашисты убили ребенка, и вот она, обезумевшая, ходит по городу с мертвым ребенком на руках, а они окружают ее и танцуют. Почти так же страшно, как танцевал старик Кабот в вашем спектакле. Потом она найдет в себе силы отомстить. И вся вторая часть посвящена этой мести. Я верю в то, что вы напишете для меня свою пьесу».
Так или почти так написал Таиров. И отправил письмо. Неизвестно, получил ли его О’Нил в Америке, известно только, что ответа Таиров не дождался, он был срочно возвращен в Москву. Жестокий приступ не дал ему провести генеральную репетицию пьесы Паустовского «Пока не остановится сердце».
Это был легкий, совсем необременительный больной. Его навещали известные люди, справлялись о здоровье даже из приемной Калинина, но в этом не было ничего удивительного. В этом корпусе лежали и большие знаменитости — маршалы, кинематографисты и засекреченные ученые, чьи фамилии не всегда были известны даже главврачу.
А тут всего лишь руководитель одного из московских театров. Не все среди персонала могли похвастаться, что там бывали, врачам некогда ходить по театрам, хотя они и делают вид, что рады знакомству.
— Так что мы вас ждем, — говорит пациент.
— Обязательно, — отвечает врач.
Пациенту сразу начинает казаться, что его лечить будут лучше, и он облегченно вздыхает.
Но сейчас некуда было приглашать. Война, театр в Барнауле, он здесь, в Кремлевке, и неизвестно — все ли обойдется.
Его просили жаловаться, сообщать, если болит — врачам нужно знать всё о боли. Он отвечал, что всё совсем неплохо, не стоило их обременять своим приездом, театр ждет его в Барнауле.
И нельзя было упрекнуть его в излишнем героизме, мол, идет война, а на меня, бесполезного человека, тратятся драгоценные медикаменты, нет, он действительно производил впечатление оставшегося кому-то должным и теперь спешил рассчитаться.
— Подождут они вас там, — сказал главный врач. — Алиса Георгиевна звонит ежедневно, вы ее разорите.
— Она сама нездорова, — сказал больной. — Вот закончится война, положу ее к вам, здесь хорошо.
— Великие артистки не должны болеть, — сказал главный. — Они неприкосновенны.
И с уважением посмотрел на Таирова. Тот был мужем Коонен, и это делало его в глазах врача явлением исключительным.