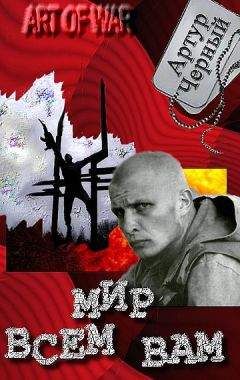Этот «водораздел» можно проследить почти в каждой партии Улановой, и всегда он определяется духовным потрясением героини, радостным или горестным. В «Жизели» это сцена безумия, которую Уланова неожиданно трактует как сцену трагического прозрения. Здесь умирает наивная девочка и рождается женская скорбь и мудрость.
Чудо «звездного вальса» навсегда переносит Золушку из бытовой жизни в мир сказки.
Причем интересно, что романтическое «возвышение» образа Золушки происходит именно с момента «звездного вальса», с момента хореографической кульминации спектакля. В сказочной сцене, где феи дарят Золушке свои подарки, она еще остается робкой, осчастливленной «Замарашкой», здесь сказка еще преломляется через наивное восприятие девочки-сироты, ошеломленной случившимся чудом. Актриса еще верна найденному в первых сценах характеру, даже характерности. Но с момента, когда Золушка взлетает к небу и звездам, она становится уже существом романтическим, сказочной принцессой, прекрасной в каждом своем движении. Такой остается она и в своем горестном пробуждении. Золушка дернулась к действительности, но сказка, чудо уже навсегда живут в ней самой, преображение совершилось, хотя она снова в лохмотьях, а не в сверкающем наряде.
Если в первом акте «Бахчисарайского фонтана» ее Мария отмечена характерными чертами гордой, даже надменной счастливой польской панны, то с момента потрясения, когда она стоит перед Гиреем на фоне горящего замка, опять-таки начинается путь к романтическому обобщению. Во втором и третьем актах это уже не просто тоскующая пленная княжна, а олицетворенное в танце воплощение духовной силы и чистоты.
В сцене сна совершается духовное преображение Тао Хоа, превращающее робкую танцовщицу из кабачка в бесстрашную героиню; эпизод гадания пробуждает в простенькой Параше целый мир тревог, печалей и опасений; в сцене измены Люсьена влюбленная Корали обретала, говоря словами Бальзака, «ангельское величие души». Таким образом, почти в каждой своей роли Уланова проживает как бы две жизни: реальную, простую, отмеченную правдой характерных штрихов и подробностей жизнь шаловливой девочки Джульетты, простодушной крестьяночки Жизели, забитой сироты Золушки, молоденькой содержанки Корали, — и другую — возвышенную, приподнятую над бытом, прекрасную и бессмертную «жизнь человеческого духа». Рассказ о той или иной конкретной женской судьбе становится поэмой о самом существе и смысле женской любви, подвига, героического самоотвержения.
Уланова стала великой актрисой, но в то же время не перестала быть такой же великой классической танцовщицей. Она всегда была ею, никогда не изменяя природе и законам своего искусства.
Пожалуй, даже неверно говорить о том, что Уланова замечательная балерина и не менее замечательная актриса, что она играет так же хорошо, как и танцует. В этом есть какое-то разделение, какая-то условная граница между выразительностью мимики, жеста и красотой танца. А как раз этого разделения нет у Улановой. Все дело в том, что она сумела сделать выражением драмы, языком живого чувства самый классический танец. Танцевать для нее — значит играть, играть — то же самое, что танцевать.
В моменты наивысших драматических потрясений, глубочайших сценических переживаний она обязана помнить и помнит о красоте и законченности позы, о чистоте линий танца. Это стало свойством ее творческой природы. В Улановой удивительно это соединение вдохновения, непосредственности чувств со строжайшим внутренним контролем, не допускающим ни малейшей погрешности танца.
Танец Улановой безупречно точен и музыкален, и в то же время он кажется свободным излиянием чувства. Это сочетание доступно только великим актерам.
Именно об этом говорил Шаляпин: «Я ни на минуту не расстаюсь с моим сознанием на сцене. Ни на секунду не теряю способности и привычки контролировать гармонию действия».
Шаляпин пел в опере, Уланова танцует в балете. Оба они связаны с музыкальной стихией. Музыка требует от актера безупречной гармонии действия, которая достигается этим строгим, никогда не изменяющим чувством внутреннего контроля. Может быть, именно в этом отличие «поющего актера», каким был Шаляпин, и «танцующей актрисы», какой является Уланова, от актеров драматического театра.
Уланова избегает условной эффектности первого выхода балерины; появляясь на сцене, она всегда приносит с собой на сцену прошлое образа, как бы продолжает линию жизни, которая была за кулисами. Когда открывается дверь маленького домика и оттуда выглядывает лицо Жизели, вы можете ясно представить себе, как она вела себя до этого появления, как прислушалась к стуку Альберта, насторожилась, как подбежала к двери и т. д. У вас нет ощущения, что вышла на сцену актриса и начала танцевать; кажется, что танец этот начался еще до выхода на сцену и будет продолжаться после ее ухода за кулисы. Уланова подлинно живет в танце, а всякая настоящая жизнь на сцене создает ощущение, что она началась задолго до появления актера и не обрывается с его уходом за кулисы.
Во время заграничных гастролей Уланову величали балериной assoluta, прима-балериной Большого театра. Конечно, Уланова одна из величайших балерин мира, но ее величие в том и состоит, что ей совсем не подходят эти титулы. У Улановой нет импозантности и горделивой осанки прима-балерины. Ее выходы, манеры, движения исполнены удивительной скромности. Никакой игры «на публику». Она никогда не выходит на сцену прославленной, блистательной прима-балериной, а выбегает юной Джульеттой, простодушной Жизелью, счастливой Марией…
В Германии об Улановой писали: «Это сила и величие, лишенные малейшего тщеславия».
И, действительно, Уланова умеет подчинить свое искусство общему замыслу, требованиям спектакля, ансамбля. Она не делает ничего для того, чтобы выделиться, всецело поглощенная теми задачами, которые ставит перед ней данная тема, данный спектакль и образ. Уланова прекрасно владеет искусством сценического общения. Она, говоря языком драматического театра, чутко «слушает» партнера, ни на секунду не теряет с ним связи, отзывается на каждый оттенок его настроения. Иногда даже самый характер ее танца неуловимо меняется в зависимости от индивидуальности партнера.
Уланова говорит, что, танцуя Лебедя с К. Сергеевым, она глубже ощущала лиризм адажио, когда же ее партнером был А. Ермолаев, характер танца менялся — в нем появлялась большая энергия и темперамент.
Человечная, страдающая Зарема Вечесловой вызывала у Марии — Улановой чувство сострадания, желание понять ее и помочь ей; страстная, гневная Зарема Плисецкой заставляет ее настороженно отстраняться, рождает в ней ощущение внутреннего недоумения и растерянности. С волевой, замкнутой Заремой — Шелест вырастает и гордая сила улановской Марии. «Уланова так смотрит на спектакле, — говорит Шелест, — что мне, Зареме, становится страшно от ее спокойствия, внутренней силы».
Она абсолютно «сливалась» с Ромео — Сергеевым в едином, возвышенном порыве юной любви, это был неповторимо гармоничный лирический дуэт, пример сценического, художественного «согласия и созвучия».
Танцуя Джульетту с М. Габовичем, который был мужественным и внутренне зрелым Ромео, она казалась совсем хрупкой, в чем-то трогательно беспомощной. С Ю. Ждановым, который принес в роль Ромео юношескую наивность и простодушие, Уланова — Джульетта приобрела новые черты: в ней появился оттенок женственной мудрости, любовно-материнского отношения к возлюбленному.
Уланова чувствует партнера, общается с ним в самых, казалось бы, технически сложных позах и положениях, в воздушных поддержках например.
В первом акте «Жизели», сидя высоко на плече Альберта, она вдруг прерывает свою каноническую балетную позу и с лукавой, ласковой улыбкой смотрит вниз на своего любимого, — перед нами не танцовщица, поднятая в воздух кавалером, а веселая, непосредственная Жизель, у которой дух захватывает от радости, от счастья, что ее так любят.
Уланова общается в танце не только с партнером, но и с окружающей толпой кордебалета — с гостями в «Бахчисарайском фонтане», с подругами и виллисами в «Жизели». Она никогда, даже в моменты наиболее сложных движений, не теряет ощущения среды, правды сценической ситуации, внутренней связи с окружающими ее людьми.
Уланова является «образцовой», «чистой» классической танцовщицей, но она часто обогащает язык балетной классики элементами характерного танца. Уланова может не делать движения точно так, как его делают в характерном танце, но она схватывает стиль, манеру его исполнения и соответственно окрашивает рисунок классической партии.
В «Бахчисарайском фонтане» в первом акте у нее — «польские» руки, особая манера держать голову. Вот почему улановская мазурка на пальцах не менее горделива, зажигательна, точна по стилю, чем мазурка характерных танцовщиц. Оставаясь в строгих канонах обобщенного классического танца, Уланова умеет придавать ему оттенок национального своеобразия. Это можно сравнить с тем, как хороший драматический актер может передать национальный характер в мелодии, темпераменте, ритме речи своего героя, не прибегая к точному акценту.