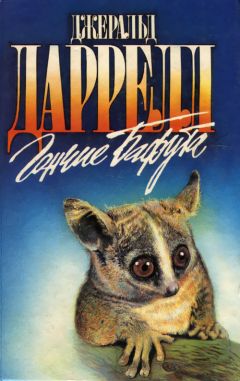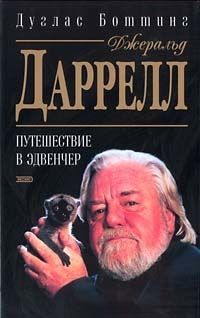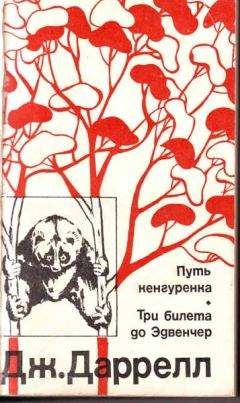Но вернемся к нашему старому знакомому Овьедо. В своих рассуждениях о ленивцах он так отзывается об их голосах:
«Их голос весьма отличен от голосов иных зверей, ибо они поют только ночью, да и то лишь время от времени, и распевают всегда шесть нот, одну ниже другой по нисходящей, так что первая нота самая высокая, а остальные чиже. Подобно тому, как если бы человек распевал: ля-соль-фа-ми-ре-до, так и этот зверь говорит: ха-ха-ха-ха-ха-ха.
Такое впечатление, что первый изобретатель музыки пришел к своему открытию, послушав пение этого зверя. От него, и ни от чего иного, ведут свое начало принципы музыкальной науки».
Ну а что касается меня, то я ничего не могу сказать про вокальные достижения ленивцев. Может быть, Овьед и прочил своим питомцам оперную сцену, зато мои не производили никаких звуков, даже отдаленно похожих на то, о чем он писал. Сколько бессонных ночей провел я в своем гамаке, не теряя надежды, что они все же когда-нибудь примутся разучивать гаммы! Но все напрасно… Я знаю некоторых безмолвных животных, например жирафов, а теперь, похоже, можно причислить к этому ряду и ленивцев. Как я уже писал, двупалый разбойник, когда его тревожили, имел обыкновение громко шипеть; трехпалый шипел послабее, иногда при этом дополняя шипение глухим стоном, как при агонии. Судя по одним только этим звукам, я бы не решился разделить мнение Овьедо, что искусство музыки берет свое начало от песен ленивцев.
Увлекшись семейством Bradypodidae я совершенно позабыл о лунном увари. Когда же Боб напомнил мне, что через три дня мы должны будем вернуться в Джорджтаун с очередной партией животных, я вдруг понял, что у меня остался, возможно, последний шанс приобрести опоссума этого вида. Смешно вспоминать, в какую панику я впал! Я в спешном порядке в очередной раз повысил закупочную цену, заметался туда-сюда по главной улице Эдвенчер, обивая пороги людей, которые имели хоть какое-то отношение к охоте, умоляя раздобыть мне лунного увари. Но три дня пролетели как один миг, а никто так и не принес мне лунного увари. Я погрузился в глубокое уныние. Чтобы доставить нашу коллекцию к пристани, мы наняли неуклюжую длинную повозку, запряженную заморенной клячей. Повозка подкатила к нашей хижине, и мы с Бобом принялись нагружать ее клетками со всяческим зверьем. Кого у нас тут только не было — тут и ящики с тейю и игуанами; мешки с анакондами и мешочки со змеями поменьше; клетки с крысами, обезьянами и ленивцами; Катберт, отчаянно пищавший из-за решетки; клетки с маленькими птичками и большие бидоны с рыбами. Последней была торжественно погружена самая зловонная из всего багажа клетка — а именно с нашими старыми знакомыми, опоссумами, — и тяжело нагруженная повозка со скрипом и грохотом потащилась по дороге. Айвен был выслан вперед, чтобы обеспечить место для всей нашей коллекции на верхней палубе парохода.
Мы с Бобом медленно плелись рядом с повозкой, которая грохотала по белой от пыли дороге. Растущие на обочине деревья отбрасывали резкие тени. Мы махали на прощание местным жителям, которые вышли на улицу пожевать нам счастливого пути. Вот наконец остались позади последние дома Эдвенчер, и повозка выкатила на финишную прямую. Когда до причала оставалось ровно полпути, мы услышали сзади чей-то отчаянный крик. Я обернулся и увидел крохотную фигурку, бежавшую за нами следом и отчаянно махавшую рукой.
— Это кто еще такой? — спросил Боб.
— Почем я знаю! Уж не нам ли он машет?
— Похоже, что так. На дороге больше никого нет.
Повозка покатила дальше, а мы остановились и стали ждать.
— Похоже, он что-то тащит! — сказал Боб.
— Может, мы что-то забыли?
— Или что-то упало с повозки?
— Не думаю.
Но вот стало возможным рассмотреть бегущего. Это был маленький индейский мальчик — он бежал что есть сил по дороге, разметав по плечам длинные черные волосы; по лицу у него расплывалась широкая улыбка. В одной руке он держал веревочку, на которой болталось что-то крохотное и черное.
— Похоже, он несет какое-то животное, — сказал я и двинулся ему навстречу.
— Только не это, никаких больше животных! — проворчал Боб.
Тяжело дыша, мальчуган остановился и протянул мне веревочку. С конца ее свисало крохотное черное существо с розовыми лапками, розовым хвостом и красивыми темными глазками, обрамленными вскинутыми как бы в постоянном удивлении бровями. Они особенно эффектно смотрелись на фоне кремового меха. Это и был долгожданный лунный увари, он же мышиный опоссум.
Когда мой энтузиазм несколько поутих, мы с Бобом принялись шарить по карманам, чтобы расплатиться за опоссума, и вдруг поняли, что всю мелочь отдали Айвену. Но мальчик изъявил готовность прошагать с нами до причала оставшиеся полмили, и мы продолжили свой путь. Но не успели пройти и нескольких шагов, как меня ошарашила ужасная догадка.
— Боб, мне не во что посадить его, — сказал я, показывая на болтающегося на веревочке лунного увари.
— А что, нельзя его довезти так до Джорджтауна?
— Нет, мне нужна хотя бы коробка. А уж на пароходе я сварганю для него клетку.
— А где возьмешь коробку?
— Придется сбегать в магазин.
— Как, обратно? Пароход должен быть с минуты на минуту! Опоздаешь!
Как бы в подтверждение его слов с реки донеслись гудки парохода. Но я уже несся назад в Эдвенчер.
— Задержи отправление, пока я не вернусь! — завопил я.
Боб отчаянно взмахнул руками и ринулся к причалу.
Домчавшись до Эдвенчер и вихрем ворвавшись в магазин, я бросился к изумленному торговцу с просьбой дать мне коробку. Сохраняя достойное похвалы присутствие духа, он без лишних вопросов вывалил на пол груду консервов и протянул мне пустую коробку. Я пулей вылетел наружу, но, лишь пробежав значительную часть пути, услышал рядом с собою топот чьих-то ножек. Оказывается, это был все тот же мальчуган-индеец, который, как выяснилось, неотступно сопровождал меня. На лице у него была та же широкая улыбка.
— Дайте я понесу коробку, хозяин, — сказал он.
Я был только рад передать ему ношу, так как опоссум, непривычный к таким забегам, начал бунтовать и все время норовил забраться по веревочке и цапнуть меня за руку. Так мы и летели по пыльной и раскаленной солнцем дороге, каждый дорожа своей ношей — он коробкой, которая была водружена у него на голову, я — зверьком, болтавшимся на веревочке. Я взмок как мышь, легкие горели, мне несколько раз хотелось остановиться и отдышаться, но всякий раз меня, точно удар хлыста, подгонял гудок парохода.
Когда я, пробежав последний поворот, увидел все еще стоящий у причала пароход, я был уже ни жив ни мертв. За кормой бушевала взбитая винтом пена, на сходнях стояла отчаянно жестикулировавшая группа людей, включающая Боба, Айвена и капитана судна. Прижимая к груди опоссума и коробку, я стремглав взбежал по сходням и сразу же припал к перилам, хватая ртом воздух. Сходни взяли на борт, пароход дал гудок и с шумом отвалил от пристани. Через открывшуюся полосу воды Айвен швырнул мальчику-индейцу плату. Когда я окончательно пришел в себя, пароход уже шел полным ходом вверх по реке.
— Муза, воспой нам поход Одиссея за увари лунным, — сказал Боб, протягивая мне бутылку пива. — Я-то думал, что нам без тебя так и придется уехать. Капитан уже начал выходить из себя. Особенно когда я сказал, что ты побежал за опоссумом. Он, похоже, расценил это как оскорбление своего капитанского мундира.
Я развязал сумку с инструментом и, пока мы плыли, превратил коробку в отличную клетку для опоссума. Теперь осталось только развязать веревочку, которой он был перевязан поперек живота. Он разинул пасть и зашипел в обычной для опоссумов «дружелюбной» манере, но все же я цепко схватил его за загривок и принялся распутывать узел.
Но вот что бросилось мне в глаза. Я заметил, что у него на брюхе, между задними лапами, имелась продолговатая выпуклость, похожая на колбасу. Я испугался: вдруг это какое-нибудь внутреннее кровоизлияние, вызванное веревкой? Забегая вперед, скажу, что моя тревога оказалась напрасной. Более того, поняв подлинную причину вздутия, я чрезвычайно обрадовался. Когда я стал исследовать животное, то обнаружил в выпуклости продолговатое отверстие. Разведя складки кожи, я увидел карман, а в нем — дрожащих розовых детенышей. Вполне естественно, мамаша была вне себя от ярости, что я своим вторжением столь бесцеремонно нарушил покой ее крошек, и издала громкий, дребезжащий, как жестянка, крик ярости. Продемонстрировав детенышей Бобу и сосчитав их (их было трое, каждый — в половину моего мизинца), я водворил возмущенную мамашу в клетку. Она тут же села на задние лапы, скрупулезно обследовала свой кармашек, разглаживая шерстку и ворча про себя. Затем она скушала банан, свернулась клубочком и уснула.
Я был наверху блаженства, оттого что у меня не один мышиный опоссум, а целая семья, и всю дорогу до Джорджтауна только о них и говорил. По прибытии мы показали нашу коллекцию взволнованному Смиту. Лунных увари я приберег в качестве гвоздя программы, рассчитывая, что они вызовут у Смита не меньший восторг, чем у меня. И вот я с величайшей гордостью и предвкушая похвалы показываю дражайшее семейство… Но каково же было мое удивление, когда лицо Смита выразило крайнее разочарование.