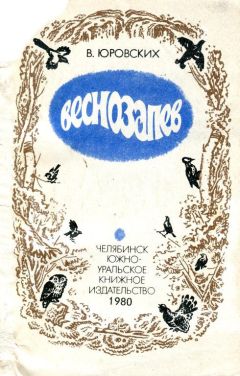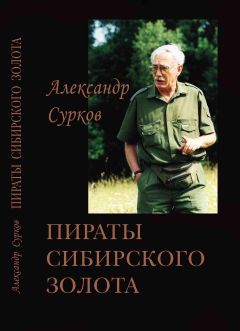— Папа! — кричит дочка, и удивленно-огорчительно добавляет: — Не утащить же нам все грибы, один ты сколько насобирал…
Настает мой черед краснеть перед ней за неуемную работу. Права она: пора и честь знать, пора и подумать, во куда и как стузить-не перемять грибы и грузди? Однако тянутся же, сами тянутся руки к задрехлевшему пню — на него ребячьей гурьбой влезли молодые опята. Уж как там кому, а им в теснотище не жарко, не душно и не обидно! Для опяток местечко в мешке, что ли, оставить, не исперемнутся они, спружинят привычно, все равно во-о-он как жмутся и на пне, и вкруг него!
Прикинул я наши тарные возможности и закрыл складной охотницкий ножик. Куда нам вдвоем тягаться с грибным урожаем?! Если завтра кто и наведается сюда — милости просим, только свиноройством не занимайтесь! Не захочется с кем-то нам заодинно грибничать — «ворот» рубахи-рощи целехонек, да и тут экая пропасть грибов и груздей остается после нас!
Как ни уберегал я Марину, но я ей досталась ноша не по годам и силе, поначалу приемная, а постепенно тяжелеющая как бы нашим потом.
С передышками-привалами и «скатились» мы пшеничным увалом к поскотине, где освежило-обдуло нас на полысевшем бугорке, и степным раздольем бодрее доплелись к остановке. Автобус нам все равно ждать часа полтора, он еще с вокзала не отправился на соседнее село Красномылье.
На солнечной стороне кирпичной «ожидаловки» устроили мы скамеечку из белых силикатных кирпичей, настроились на терпеливое возвращение домой. Когда есть чего везти, тогда любое ожидание не пустое время, а считай за послетрудовой отдых. Дома-то ой сколько ждет всех нас четверых возни с грибами! Все надо до единого перебрать-переглядеть, каждому угадать свое место — эти на сушку, эти на засол, эти на маринование…
Самому странно: почему мне более по нраву просто искать и собирать ягоды или грибы, чем услаждать себя ими за столом? Чего не скажу о рыбе — для меня и ловить ее умопомрачительная страсть, и поесть ее охотник в любом виде. Из двух вершковых окуньков однажды с сыном и приятелем сварили уху в трехлитровом котелке. Может быть и прозрачно-чистая вода из речки Ольховочки тому виной, но ведь как мы хлебали уху деревянными ложками! Крякали искренне хором, настораживая неробких чечевиц, и за шесть минувших лет чудится дух и вкус той «тройной» ухи. А грибы да ягоды восхитительны, пока не станут обычной едой…
Размышляя о том да о сем, смотрел я на степочку впереди себя, и казалось, что никто и ничто не взволнует нас до прибытия автобуса. И вдруг на ближний взгорок стремглав ринулся откуда-то ястреб-перепелятник, и почти одновременно с резко-грозным писком ударили по бокам две деревенских ласточки — такие крохи-комарики в сравнении с ржаво-полосатобрюхим разбойником! Непонятная отвага касаток смутила меня: добро бы они свое гнездо обороняли под застрехой амбара или конюшни, а тут отгоревшая за жаркие августовские дни голая степь…
Если бы ласточки преследовали-гнали его взашей издали, то зачем бы ему падать к земле с раскогтенными желтыми лапами? Планы перепелятника расстроились мгновенно, и он круто взмыл от взгорка, и тогда та самая малая пядь земли стрельнула к нам живой комочек. А как упал он в ноги Марине, оказался насмерть перепуганной желтой трясогузкой. Не той взрослой, что отзолочена и расцветает весной на лугах вместе с одуванчиками, а невзрачно-зелененькой, скорее всего еще желторотой. У нее и дрожливых ножек словно совсем не было — до того плотно прижалась она к асфальту.
Ласточки протурили ястреба с поскотины и, о чем-то пощебетывая на лету, промчались обратно в Тюрикову. Все свершилось настолько быстро, что мы опоздали с похвалой ласточек за спасение трясогузки, еще беззащитнее той птицы, по имени которой ястреб и получил «довесок» — перепелятник. Вот ведь еще одна грустная история наших дней: перепелов — хлебных телохранителей — чуть не начисто вытравили на полях химикатами, а этот жив-здоров, пичужит в свое удовольствие других птах. «Санитарит», — сердито передразнил я в уме лукавомудрых ученых мужей с адвокатскими замашками.
Дочка хотела приголубить трясогузку, да не успела дотронуться, трясогузка негромко чиликнула и порхнула через дорогу к деревне.
— У нас, у нас нашла защиту! — взгордилась Марина и огорченно добавила: — А погладить не позволила…
— Что правда, то правда, Мариша! Нынче звери и птицы возле людей ищут спасение. Сама же видала, сколько козлов диких поразвелось у самого города. Только не мы, а ласточки первыми заступились за трясогузку. Они заступницы, хоть и сами малы.
— Значит, мы и ни при чем? — обиделась дочка.
— Отчего же! В самый раз при чем! Откуда знать трясогузке, что ястреб отступился лишь из-за ласточек. Молода еще! А вот в войну, в сорок втором году, такой же ястреб прямо в сени загнал серую куропатку. Зимовал тогда на нашем огороде целый табунок куропаток. И сам следом за ней залетел. Ладно брат Кольша за чем-то в чулан бегал, и перепелятник в ограде на тынок уселся, выжидать начал куропатку. Дескать, выгонят и ее на улку. А Кольша хвать тятину одностволку в дыру меж сенками и за уголком избы бабахнул по нему. Не промазал Кольша, и в двенадцать лет метко стрелял, не то, что я сейчас.
— А куропатку неужели не съели? Ты ж сам рассказывал, как голодно вам жилось в войну.
Я не обманывал дочку, рассказывая, как сперва досыта он, сестра Анна и я нагляделись на нее, поочередно подержали в руках и вынесли птицу на огород, где в лебеде и конопле по меже жили ее братья и сестры. В лесу мы с братом промышляли и куропаток, и петли настораживали на зайцев, зато своего зайца, что облюбовал зимой нашу черемуху на задах пригона, мы подкармливали морковками. Почему-то он не грыз наши гостинцы, леденевшие сразу на стуже, обходился чем-то своим, однако мы не унывали. Мороженые морковки оттаивали и съедали сами, а взамен клали на тропу свежие коротельки.
…На мягком, откидном сидении в автобусе с голубой надписью по кузову «Исеть» можно было и подремать, но мне думалось о ласточках, о своем родном селе Юровка.
Замечал я прежде да только не задумывался: отчего среди лета у могутной березы всегда светлеют одни и те же листья? Все окрест зелено-веселое, и лишь у нее странное предчувствие издалека подступающей осени. Ну, если бы стояла в низине, а то ведь на угоре. И не старше многих по Капародовской гряде…
Какая же особая судьбина выпала ей на веку-волоку?
…Разутрело как-то весной, и выбрался на угорину с железным рыком первый трактор. Двинулся он на вековечные пашенные межи, и вороном раскрылилась угорина от росстани до речки Крутишки. И не хотел синеглазый парень, да полоснули лемеха по корням-жилам где-то глубоко в земле. Может, только конек лесной и слышал, как больно ойкнула береза, скрипнула да стемнела стволом.