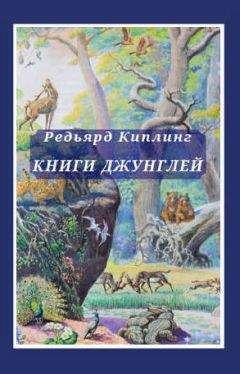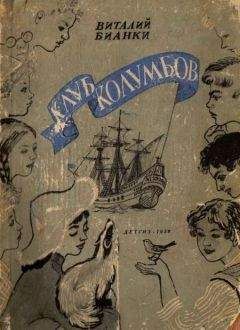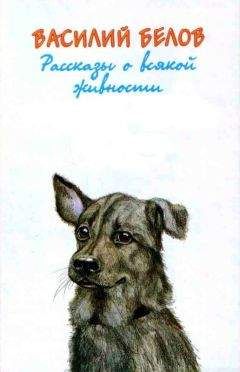— Ты чей?
Ваня стоял, упорно глядя в пол.
— Ну, что ж ты не говоришь? Чей же ты?
— Мамкин, — угрюмо сказал Ваня, все глядя в пол.
Ребятишки покатились от хохота и закричали:
— Заячий хозяин…
— Он Щербаков… Щербака рыжего сын.
Учитель улыбнулся.
— Зачем же ты пришел?
— Букварь.
Все опять засмеялись.
— Сколько тебе лет?
— Об рождестве девятый пойдет.
— Видишь, хлопец, ты еще мал; приходи на тот год.
— Я реветь буду, — все так же хмуро заявил Ваня.
Учитель опять улыбнулся и ласково погладил его по голове.
— Ну, хорошо, оставайся пока; слушай, о чем тут говорят; я сам поговорю с отцом.
Класс стал заниматься, а Ваня, напрягаясь и морща лоб, слушал, ничего не понимая, и чувствовал себя, как в церкви.
Урок подходил к концу. Вдруг все головы повернулись к окну, и учитель остановился на полуслове: в омытом дождем стекле виднелись две морды, внимательно глядевшие в комнату, одна косматая, другая с длинными ушами.
Ребятишки захохотали.
— Это что такое? — спросил учитель.
— Это Ванькин кобель да заяц.
— Одноглазый…
— На задних ногах стоят…
— Они у него выучены…
Учитель строго сказал:
— Это не годится. Нельзя так.
Ваня горько разрыдался:
— Я их убью. Я их прогонял, они не слухают. Я их собаками зацукаю…
Учитель, успокаивая, опять ласково погладил по голове:
— Ну, ничего, ничего, успокойся. Только не бери их с собой в другой раз.
Потом позвал сторожа и что-то сказал ему. Сторож, стуча в сенях сапогами, хлопнул наружной дверью, и в стекле разом исчезли и косматая и ушастая морды.
Когда Ваня ворочался, на косогоре его ждали и Забияка и Одноглазый, невыразимо грязные. Забияка, радостно визжа, прыгал и лизал в лицо, а Одноглазый становился столбиком и барабанил по коленям. Ванятка ласкал обоих и, радостный и счастливый, держась руками за голенища, чтобы не вылезли ноги, добрался домой.
Пришел март. Снега быстро таяли, шумели овраги, птицы летели с юга, и солнце безоблачно сияло.
Ваня каждый день ходил в школу, но ни Забияка, ни Одноглазый его уже не провожали.
С зайцем стало делаться что-то странное. Стал он беспокоен, пуглив, поминутно навастривал уши, не давался в руки. И однажды исчез.
Долго ходил и искал его Ванятка, — нигде не было. Только когда однажды выбрался на гору, на талом снегу увидел обтаявшие заячьи следы: большими скачками, видно, уходил в степь и уже больше не ворочался.
Только раз летом на покосе видел Ваня, как по скошенному месту прокатился крупный заяц, остановился на секунду, присел, повел ушами и исчез, мелькнув в траве. Своя, видно, началась жизнь.
А у Вани и Забияки тоже у каждого своя была жизнь: Забияка зло сторожил двор, лошадей, скотину, днем и ночью не подпуская к дому никого. Стал он еще косматее, вечно в орепьях, с мотающимися комками грязи на лохмах.
Ваня летом не покладая рук работал во дворе, в поле, ездил на мельницу, возил на станцию хлеб, а зимой в отцовских валенках бегал в школу.
Над самым берегом стояла великолепная дача, похожая на белый дворец, — в ней жили господа. Даже и не жили, они все время проводили за границей, и дача стояла пустая. Но ее охраняли и за ней ухаживали, и для этого во дворе жило много народу: дворники, сторожа, кучера, садовники, горничные, лакеи.
Жил в сторожах рязанский крестьянин, переселившийся года два назад на Кавказ с большой семьей, — старшему, Галактиону, четырнадцать лет. Жена, крепкая российская женщина, хорошая работница, вот уже полтора года лежит желтая и раздувшаяся от злой кавказской лихорадки и слабым замученным голосом все скрипит:
— Галаша, сынок, ты бы мне медвежатинки добыл, что ли. Так и вертит в носу, так и вертит, кабы съела кусочек, поздоровила, гляди. Уж так-то хочется, так-то хочется!
Жалко Галактиону матки, да как добудешь? За эти два года он отлично выучился стрелять, да на медведей отец не пускает, и некогда; то винограды вскапывать, то в огороде, то скалу порохом взрывать, — от работы некогда и оторваться.
От дачи в одну сторону тянулось бесконечное синее море, а сзади, возвышаясь друг над другом, уходили в небо горы.
Ближние были густо-зеленые, покрытые дремучими лесами; дальше синели затянутые фиолетовой дымкой, а за ними громоздились белые, как сахар, снеговые хребты.
Леса и горы тут пустынны — редко встретишь человека, но тут своя жизнь, свое население: бродят грациозные козы, а за ними серой толпой, низко опустив лобастые головы, волки. Одиноко разгуливают медведи, деловитые, наблюдательные, все примечающие, ко всему прислушивающиеся. Прыгают по деревьям белки. Раздвигая кусты могучей грудью, с треском проходят огромные, с чудовищно косматыми плечами зубры, которых во всем мире осталась только горсточка на Кавказе.
Много по Кавказским горам и лесам звериного и птичьего населения, — охотнику тут раздолье. Много и гадов всяких: в траве, в каменистых щелях извиваются гадюки; на припеке греются маленькие красные змейки, от укуса которых человек и зверь быстро умирают; на камнях выползают греться смертоносные скорпионы, похожие на рака. Бегают проворные сколопендры, многоножки, и серые ядовитые фаланги, похожие на большого длинного паука, охотятся на мух, ловко хватая длинными мохнатыми лапами.
Рано утром, в воскресенье, еще солнце не вставало, Галактион потихоньку от отца вскинул охотничий мешок с хлебом, взял подвязанное веревочкой ружье, мешочек с порохом и пулями и вышел.
Море только что проснулось, было светлое, покойное и еле заметно дымило тонким туманом утреннего дыхания. Прибой мягко, ласково шуршал, чуть набегая на мокрые голыши тонко растекающимся зеленоватым стеклом. Косо белели вдали, не разберешь — крылья ли чаек, рыбачьи ли паруса.
Галактион пошел по знакомой тропке, уходившей в горы. Лес тоже только недавно проснулся и стоял свежий, прохладный, в утреннем уборе алмазно-дрожащей росы.
Долго он шел, подымаясь выше и выше. На тропинке, загораживая ее всю, показалась маленькая горская лошадь. Ее не видно было под огромными перекинутыми через деревянное седло чувалами, набитыми древесным углем. За ней, так же осторожно и привычно ступая по каменистой тропинке, гуськом шли еще три лошади с качающимися по бокам огромными чувалами. На четвертой, свесив длинные ноги почти до земли, ехал знакомый грузин, Давид Магарадзе.