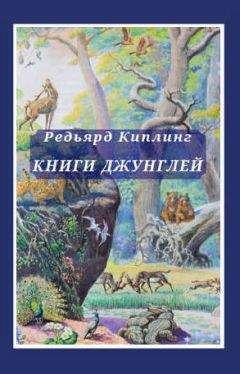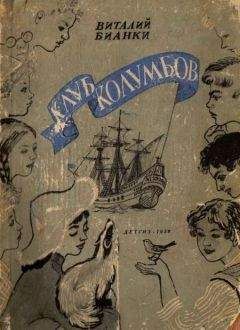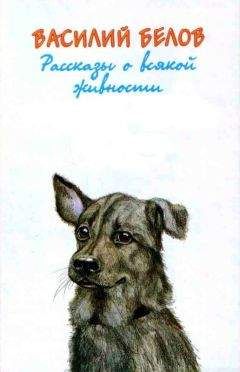Первая попалась маленькая собачонка, Плишкина знакомая. Она разбежалась было к нам, но вдруг насторожилась, зафыркала и стала красться за волчонком, нюхать след. Потом бросилась в свои ворота и оттуда таким залилась тревожным лаем, что во всех дворах отозвались собаки. Я никогда и не думал, что столько собак на нашей улице. Собаки стали выскакивать из ворот, встревоженные, ощетинились и со злым испугом издали надвигались на волка. А он жался к моей ноге и вертел своей лобастой мордой. Я уж думал: не взять ли мне волчонка на руки да не повернуть ли домой, пока собаки не бросились на него? Из ворот уж стали высовываться люди, глядеть, что случилось. Плишка снизу заглядывала мне в лицо: что же, дескать, делать? Какой, значит, переполох из-за этого чучела мордатого! Но я уж не боялся: собаки ближе трех шагов не решались подойти к волчонку. Каждая провожала нас лаем до своего дома и пятилась задом в свои ворота.
Успокоился и волк. Он уже не вертел головой, а только не отставал и бежал, плотно держась у моей ноги.
— Что, — сказал я Плишке, — наша взяла?
Мы вышли на людные улицы, где собак не было, а когда возвращались, уже все ворота были на запоре и собак на улице не было. Но Волчик очень радовался, когда пришел домой. Он стал возиться, как щенок, повалил Плишку, валял ее по полу, а она терпела и не смела при мне огрызаться.
А на другой день, когда я возвращался, я увидел на дворе Аннушку: она в лоханке стирала белье, а около нее, свернувшись клубочком, грелся на солнце волчонок.
— Я его на солнышко взяла, — говорит Аннушка. — Уж что, в самом деле, и свету животное не видит.
Я позвал:
— Волчик! Волчик!
Он нехотя встал, расставил ноги, как поломанная кровать, и стал потягиваться, совсем как собака. Потом вильнул своим веревочным хвостиком и побежал ко мне.
Я так обрадовался, что он идет на зов, что сейчас же без всякого «тубо» скормил ему сдобную булку. Я хотел уже взять его в комнату, тут Аннушка говорит:
— Как раз кончила, а вода осталась, давайте-ка я и его. А то дух от него уж очень волчий.
Подхватила его под мышку и поставила в лохань. Она его мыла, как хотела, и он стоял смешной, весь в белой пене. Он даже ни разу не зарычал на дворничиху, когда она его обдавала теплой водой начисто. С тех пор его мыли каждую неделю. Он был чистый, шерсть стала блестеть, и я не заметил, как уж хвост у волчонка из голой веревки стал пушистым, сам он стал сереть и обратился в хорошенькую веселую собачку.
И вот раз кормил я моих зверей, и Манефа, сидя на табурете, доедала рыбешку. Волчонок кончил свое и полез к кошке. Он стал лапками на табурет и потянулся мордой к рыбе. Я не успел крикнуть «тубо», как Манефа зашипела, хвост веником и — раз! раз! — надавала волку по морде. Он завизжал, присел и вдруг бросился настоящим зверем на кошку. Все это было в одну секунду: волк опрокинул табурет, но кошка подпрыгнула на всех четырех лапах и успела рвануть его когтями по носу, — я боялся, чтоб не выцарапала глаза. Я крикнул «тубо» и бросился к волку. Но он уж сам бежал ко мне, а кошка наскакивала сзади и старалась процарапать сквозь шерсть. Я стал гладить и успокаивать волчонка. Глаза были целы, — оказался порядочный шрам на носу. Шла кровь, и волчонок зализывал языком больное место. Плишка во время боя скрылась. Я с трудом вызвал ее из-под кровати. Там была лужа.
Вечером волк лежал на подстилке. Манефа — хвост трубой — королевой разгуливала по комнате. Когда проходила мимо волка, он рычал, но она и головы не поворачивала, а спокойно терлась о мою ногу и мурлыкала на сытое брюхо.
В доме уж все считали, что у меня две собаки. И, когда спрашивали про Волчика, я говорил, что это овчарка, мне подарили, — особой породы.
Но вот раз ночью я проснулся от странного звука. Мне спросонья показалось сначала, что кто-то ревет за окном. Но потом разобрал я, в чем дело. Волк. Волк завыл…
Я зажег свечку. Он сидел среди комнаты, подняв к потолку морду. Он не оглянулся на свет, а выводил ноту, и такую лесную звериную тоску выводил он голосом на весь дом, что делалось жутко.
Вот тебе и «овчарка особой породы». Этак он весь дом перебудит, и уж тут не скроешь, что волк. Пойдут охи, ахи: «Волк во дворе». Все хозяйки заскандалят и выгонят меня завтра же вон из дому с моими кошками и овчарками. Наверху генеральша живет, злая и вздорная. «Помилуйте, — скажет, — живешь как в лесу, всю ночь волки воют. Благодарю покорно». Это я все знал наверное, и надо было сейчас же прекратить этот вой.
Я вскочил, присел к волку, стал гладить, но он глянул на меня и снова запрокинул голову.
Я дернул его за ошейник и повалил на пол. Он как будто опомнился, встал, встряхнулся, зазвонил пряжками. Я побежал в кухню и достал толстую кость из супа. Волк улегся на подстилке и стал грызть. Грыз он своими белыми зубами большие воловьи кости, как сухари. Только хрустело. Я потушил свечу, стал было засыпать, — как дернет мой волк ноту, крепче прежнего. Я быстро оделся и вытащил волка на двор. Я стал с ним играть, бегать по двору. И я заметил тут, ночью, что, не зная, я принял бы его за порядочного дворового пса. И вот никто не замечал: пес мой не лаял. Беда, если узнают, что он по ночам воет!
Теперь мне ночью не стало покоя. Я по часу, бывало, сидел и уговаривал волка, я его занимал, совал ему кости, чтоб как-нибудь он забыл про вой. Я за ним ухаживал, как за больным, у которого бывают припадки. Недели через две он бросил выть. Но за это время мы с ним сдружились. Когда я возвращался домой, он ставил мне на плечи лапы, и я чувствовал, какие они крепкие у него — как железные палки. Я с ним гулял днем, и все смотрели на большую собаку с особенной походкой. Когда он бежал, он так легко пружинил задними ногами; он умел смотреть назад, совсем свернув голову к хвосту, и бежать в то же время прямо вперед.
Он был совсем ручной, и знакомые, когда приходили, гладили его и трепали по спине, как простую собаку.
И вот раз сижу я в парке на скамейке. Меж коленями у меня уселся на земле волк и дышит жарким духом, свесив длинный язык через зубы.
Маленькие дети играли в песке, а няньки на скамейке лузгали семечки.
Ребята стали подходить ко мне.
— Какая хорошая собака! Пушистая и язык красный. Не кусается?
— Нет, — говорю. — Она смирная.
— Можно немножко погладить?
Я сказал волку «тубо». Он уж это хорошо знал, и дети, кто посмелее, стали осторожно гладить. Я гладил заодно с ними, чтоб волк знал, что и моя рука тут. Няньки подходили, спрашивали: