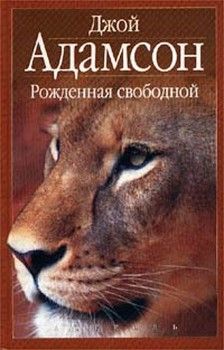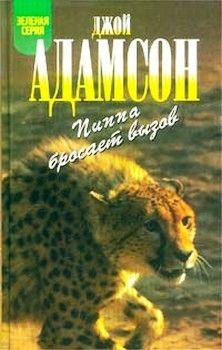Как я уже говорил, для барсука смысл жизни заключается в том, чтобы поменьше суетиться и побольше отдыхать с набитым брюхом. В семье царит тишь да гладь, мать и дети целый день проводят в объятиях Морфея, просыпаясь, лишь когда малыши вспомнят про молочную кухню. Вечером распорядок другой. Мамаша, проснувшись, устанавливает, что аккумулятор в чреве основательно разрядился, а тут еще и всевозможные паразиты докучают. Блестящие глазки-пуговки изучают обстановку. Окошко в фундаменте уже не режет глаза ярким светом. Значит, пора выходить на добычу, наполнять пузо. Но сперва надо его опорожнить. Для этого есть особое место, однако не снаружи — снаружи будет слишком заметно, а барсучиха осторожна, осторожность прежде всего. Уборная находится в дальнем конце ее жилища, под северо-западным углом дома. Мягко, но решительно оторвавшись от скулящих детей, она быстро трусит между балками и справляет нужду в положенном месте. Теперь можно и на заправку. Через систему подземных ходов барсучиха рысцой направляется к выходу, под крыльцом останавливается и принюхивается. Убедившись, что вблизи нет ничего опасного, протискивает не очень-то стройное тело сквозь узкое отверстие и трусит вприпрыжку по своим делам.
Откуда я все это знаю? Верно, я не могу забраться в нору, да и барсучиха вряд ли приветствовала бы такого гостя. Память о моей отцовской, то бишь материнской, заботе, конечно же, стерлась в ее маленьком, туго соображающем мозгу. Она знает только, что убежище под полом избушки вполне надежно.
Но ведь избушка-то деревянная, дерево сухое, отлично проводит звук, и получается нечто вроде огромного стетоскопа. Приложив ухо к письменному столу на втором этаже, я слышу многое из того, что сейчас описал. Особенно явственно — как скулят малыши. И как почесывается мамаша. Потому что она при этом часто стучит задней лапой обо что-то деревянное. Еще лучше работает стетоскоп, если прижаться ухом к полу на первом этаже. Занятие довольно утомительное — ведь пока барсучиха раскачивается, чтобы приступить к вечернему ритуалу, проходит полчаса, а то и больше.
Есть что-то человеческое в жалобных звуках малышей. Послушаешь их — и еще одно старинное суеверие получает свое объяснение, подобно тому как надежным ключом служит знакомство с поведением и звуками сов.
В старину, когда всякому было известно, что такое лесная и прочая нечисть, когда люди с одного взгляда узнавали колдунов и ведьм, когда легче было встретить «даму в белом», чем столь распространенную в те времена сипуху с ее светлым оперением, в ту пору, говорят, жило существо, которое шведы, явно звукоподражательно, называли «мюлинг» — тоскующий, мятущийся дух некрещеного дитяти, чья злосчастная незамужняя мать, боясь дурной славы, удушила его тотчас после рождения. Мюлинг сетовал в тихие ночные часы, его стоны раздавались из стен или полов дома, где мать — разумеется! — замуровала мертвое тельце. Жуткое суеверие, типичное для тех времен, а навеяно оно было, думается мне, звуками, которые издают голодные, скучающие без матери барсучата. Именно эти звуки лучше всего проводит деревянная избушка-стетоскоп. Да я и сам слышал их от своих усыновленных барсучат, как только у них что-нибудь не ладилось.
Первые двое были самцы. Я прозвал их «мальчуганами», и эта кличка пристала к остальным моим питомцам из того же племени, хотя третий — и последний — выводок состоял из самца и самочки. Как и лисы до них, «мальчуганы» первое время обитали на Малом острове. Они живо освоили все лисьи убежища, но особенно прилежно копали землю под домиком площадью три на пять метров. Впрочем, барсучата оказались не единственными обитателями островка. Независимо от их желания им составлял компанию ручной горностай, которого я взялся приучать к воле по просьбе Нильса Линимана. Этот юркий пострел основательно докучал им. Отъявленный озорник, Герман Мелин, он же герр Мелин, с младых ногтей привык играть и хулиганить вместе с добродушным псом Линиманов, и в барсуках он увидел подходящих товарищей для игр. Он вскакивал им на спину, дергал на уши — не сильно — и выкидывал всевозможные фортели, которые серьезные космачи вовсе не одобряли. Мне особенно запомнилось, как он любил красть у них еду. Прежде чем перевезти герра Мелина на Каменный остров, надо было добиться, чтобы он сам ловил мышей и полевок. К рыбе он был равнодушен, зато «мальчуганы» часто ее получали, да вот незадача — бросишь им свеженького окунька, а они с места стронуться не успеют, как бело-коричневая молния уносит добычу, пусть она размерами равна герру Мелину или даже превосходит его. Забросив рыбу на спину, зверек галопом отбегал в сторону. Отпустит, выждет, когда барсучки пойдут по следу, и только они приготовятся схватить лакомство — глядишь, герр Мелин опять его уволок. Но вот игра ему надоела, и раззадоренные барсучки, которым именно этот окунек теперь кажется самым вкусным на свете, затевают потасовку из-за рыбки с гарниром из листьев и хвои.
Понятно, рядом с этим юлой барсуки выглядели форменными увальнями, однако, ловя какого-нибудь мелкого грызуна, они развивали поразительную прыть. И играть они тоже любили — по-своему, по-барсучьему.
Их игровое поведение включало танец, которого мне при всем желании не удавалось подсмотреть у диких барсуков. Партнеры сближаются, вздыбив шерсть, так что кажутся вдвое больше, потом останавливаются и долго смотрят в упор друг на друга. Внезапно один из них прыгает в сторону, причем его движения напоминают бьющуюся на суше рыбу. Косматый зверь весь извивается в «польке», а партнер в точности повторяет каждое его па.
Так продолжается секунд двадцать-тридцать, после чего «мальчуганы» как ни в чем не бывало трусят куда-то по своим делам.
Детские игры часто содержат элементы воспитания или тренировки. Так, индейский мальчуган уже в четыре-пять лет стреляет в воду из лука. У животных игровое поведение тоже помогает детенышам развивать качества, важные для взрослой особи. Это относится к котенку, который так любит ловить клубок шерсти или мамин хвост, и, несомненно, это же относится к барсучатам. «Мальчуганы» просто предавались потешной игре, давая выход своему веселью и жизнерадостности; у взрослых особей дело обстоит серьезнее, и тот же танец, думается мне, выполняет важную функцию (у меня есть догадка — какую именно). Взрослому самцу, который живет отшельником и потребность в обществе ощущает лишь в брачную пору, танец, вероятно, помогает в обороне, в нападении и в устрашении соперника. Взъерошенная шерсть вдвое увеличивает очертания тела, так что укусы приходятся на нее да на воздух; прыжки позволяют цапнуть противника и увертываться от его выпадов. Наконец, круги и петли «польки» помогают получить столь важную обонятельную информацию о поле партнера. Самец встретил самца — схватка, а чаще — бегство. Самец встретил самку — любовь в летние ночи. Сами понимаете, демонстрация силы лучше, чем откровенная драка.