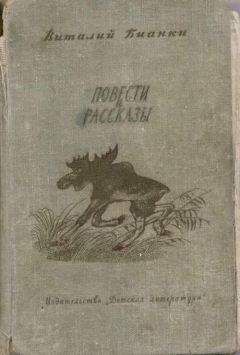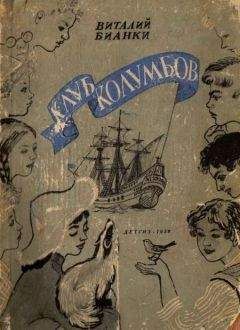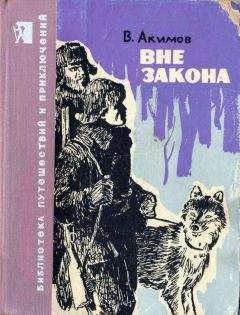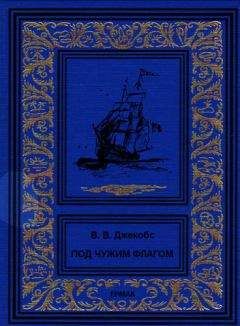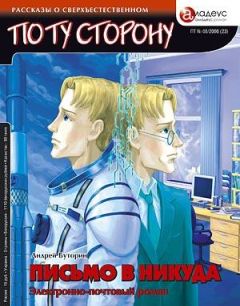Он замолчал: к горлу подкатил жесткий ком. Он не слышал, что говорили теперь уже громкими голосами крестьяне.
Бородач подошел к убитому лосю и, взявшись за рог, выпростал голову зверя из-под тяжелой туши.
— Гляди на свово Одинца! — сказал он охотнику и презрительно сплюнул.
Вместо широких рогов-лопат на голове лося торчали какие-то жалкие спички.
Охотник глядел и не понимал. Бородач обернулся к Ларивону.
— Я еще по следу приметил, что лосёк молодой: одинцов след — во! Одинец разве такому дастся?
И опять, обращаясь к охотнику, поддразнил:
— Хотелося лося, да не удалося!
Как сквозь туман, донеслись до охотника слова Ларивона:
— Толковал ему, каков из себя Одинец-то. Известно, городскому человеку ни к чему, — что старый бычина, что теленок.
Охотник растерянно пролепетал:
— Не может быть: я же Одинца стрелял! Бородач весело подмигнул Ларивону:
— Не зря молвится: лося бьют в осень, а дурака завсегда. Мало каши ел, парень!
Когда к полудню старый глухарь вернулся с жировки, Одинец ждал его уже под елью.
Через пять минут оба спокойно дремали, каждый на своем месте.
…Опустил главу печально,
Осмотрел свои все вещи,
Говорит слова такие:
— Пусть никто в теченье жизни,
Пусть никто из всех на свете
Не стремится в лес упрямо.
Чтоб ловить Хииси-лося,
Как стремился я, несчастный.
Я совсем испортил лыжи,
Разломал в лесу я палку
И согнул в лесу свой дротик.
Калевала
Глава I
НЕОЖИДАННОЕ ОТКРЫТИЕ
«К черту Одинца! Еду в город».
Так решил охотник, свежуя на задворках убитого им зверя.
Содрать шкуру с тощего молодого лося оказалось кропотливым и трудным делом. Шкура крепко пристала мездрой[18] к жесткому мясу, и каждый вершок ее приходилось отдирать ножом.
«Будет, побаловался. Пора и в город, а то так и будешь гоняться за этим старым лешим до скончания века. На первый раз довольно с меня и этого трофея. Всё-таки о двух отростках рога».
Но как охотник ни старался убедить себя в том, что в сдаче его нет ничего позорного, — в голову лезли и лезли обидные мысли.
Его больно задели насмешки бородача.
Он теперь ясно понимал, что крестьяне смеются над ним, потому что Одинец им — свой, а он — городской человек, барчук — им чужой. Сами лесные жители, они любят этого лесного великана. Он им не причиняет вреда, и они не хотят его смерти. Они гордятся им и злорадствуют над выскочкой, посягнувшим на их любимца. Они заодно с Одинцом, заодно со всем этим диким, полным неожиданных страхов лесом.
Охотник потерпел жестокое поражение, стал посмешищем в глазах крестьян, и это терзало его самолюбие.
Теперь он и сам начинал сознавать, что недостоин такого трофея, как голова Одинца.
«Мало каши ел!» — сердито дразнил он себя словами бородача. — Поживи-ка здесь с Одинцово, так, пожалуй, будешь в лесу как у себя в городе. Тогда и охоться».
На следующее утро, когда он кончил сдирать шкуру с лося, к нему подошел Ларивон.
— Глянь-ка, тебе, надо быть, почтарь письмо подал. С городу, видать.
И крестьянин протянул узкий голубой конверт, надписанный легким женским почерком.
Охотник почувствовал, как яркая краска залила ему лицо, и сердито буркнул:.
— От сестры! Сунь вон в куртку: потом прочту. Ларивон положил конверт в карман куртки и присел поболтать о разных разностях.
Охотник спешно кончил работу, вымыл руки, схватил ружье и заявил, что уходит в лес.
Ноги сами привели его на знакомое место: к болоту. Он сел на пенек, прислонил ружье к дереву и крепко задумался.
Нераспечатанное письмо хрустело во внутреннем кармане куртки. Но он не спешил его прочесть, нарочно медлил, как медлит человек перед прыжком в холодную воду.
«Ну, что ж, — думал он, — пусть смеется! Не могу же я, в самом деле, бросить университет и тысячу раз подвергать себя смертельной опасности. Она небось никогда не ночевала одна в лесу. Пусть-ка попробует. Или пусть с Одинцом встретится. С меня довольно!»
Выходило не очень убедительно — он это сам чувствовал, — но еще хуже было признаться себе что страшно вскрыть письмо и прочесть насмешливые фразы.
Охотник стал смотреть на болото.
На бесчисленных желтых кочках бессильно поникла трава. Кой-где под ней просвечивала холодная ржавая вода. Недалеко от берега, как древний замок, высилась темная, круто закругленная стена леса: остров на болоте.
Охотник подумал, что видит эти места в последний раз, — и почувствовал грусть. Унылый и дикий простор лесного болота впервые показался ему красивым. А сколько жутких, никем не изведанных тайн хранили его молчаливые кочки! Это место можно возненавидеть, но забыть его скоро нельзя.
Охотник стряхнул с себя раздумье, торопливо вытащил письмо и вскрыл его.
В письме не было обращения.
«Вчера читали Ваше письмо вслух, — сразу начиналось оно. — Много спорили, кто-то предлагал даже пари, что Вам не убить Одинца.
Но я-то знаю, что, как бы ни был силен и осторожен зверь, человек всегда одолеет его. И я, кажется, начинаю ненавидеть Вас».
— Что такое? — изумился охотник. — За что?
«Я говорила Вам, что выросла в лесу и люблю лес со всеми его жителями. Для меня ненавистны вы, городские охотники. Вы распоряжаетесь деревьями и животными так, будто они существуют исключительно для вашего удовольствия.
В первый момент нашего знакомства я подумала, что нашла в Вас друга. Все в городе только и думают, что о городских своих делах и развлечениях. И уж если кто вспомнит про лес, или поле, или солнечный восход, так только — «ах!» да «ох!», «красота, прелесть!» Будто редкость какая.
А Вы так чудесно рассказывали про Одинца! Я видела его перед собой, как живого, во всем его диком, зверином великолепии.
И вдруг Вы заявляете, что едете убивать его! И заявили-то это только потому, что боялись показаться трусом.
Но я подумала: «Поживет в лесу, полюбит лесную жизнь, — и у него рука не поднимется на старого лося».
Ваше письмо отняло у меня эту надежду. Вы ничему, ничему не научились, и так вам и надо, что Одинец разбил Вам ногу; он ведь никого не трогает, если на него не нападают. Какое право имеете Вы отнимать у него жизнь? Чем он Вам-то помешал?»
«Новое дело! — совсем ошарашенный, подумал охотник. — Сама же так презрительно улыбнулась, когда я сказал, что еще не убивал лосей, а теперь…»