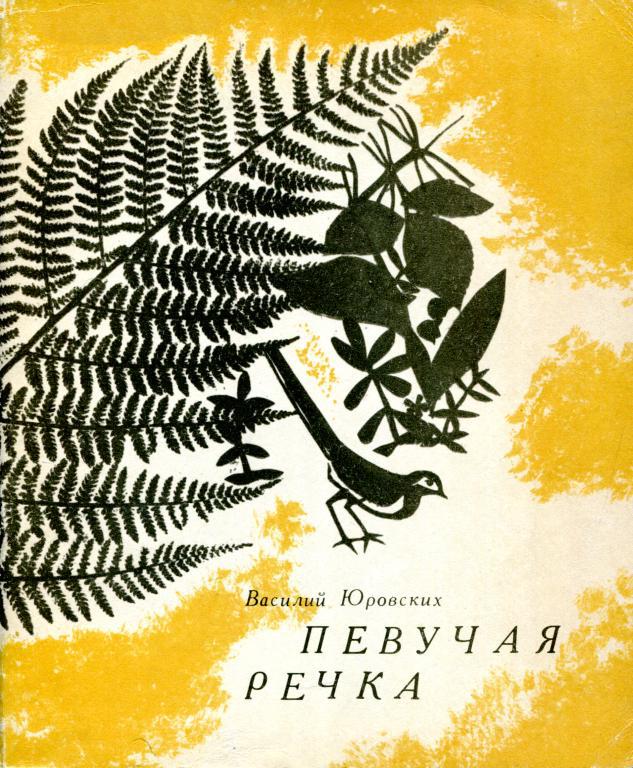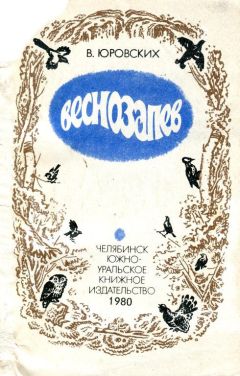клин непаханным оставил.
Но опередила меня голодная лиса. Я еще издали приметил, как она ловко кралась к наседке, оставляла на занозистом шиповнике грязно-рыжие клочья шерсти. Чем мне остановить ее? Закричал — не действует. Со всех ног побежал летними всходами, да слишком близка лисица от гнезда. И тут с дерзкой отчаянностью и болью в крике на хищницу налетел куропач. Та опешила на самую малость: взметнулся трубой облезлый хвост и… забился куропач в острозубой пасти.
Осиновая палка огрела лисицу по башке, она с воем рванулась в колок, а у ног моих лежал-вздрагивал искусанный куропач. Никла трава с алыми капельками, темные глаза птицы неотвратимо заволакивала белесо-влажная пелена. И я невольно снял с мокрой головы фуражку…
В поднебесно-лазоревом просторе гордо летят белые-белые лебеди. Их видят села и города. О них изустно веками слагаются и передаются прекрасные легенды. А я вижу то весеннюю болотину, то умирающего на смятой траве куропача. Незаметного и никем не воспетого светлыми словами.
На осине-сухостоине топорщился и жалобно пищал молодой канюк. Рядом с ним на сучке сидел сорочонок-слетыш, поглядывал на него: или канючонку хочется есть или он боится остаться один?
Канюк-родитель плавно кружился над распадком Крутишки. Услыхал писклявый голос своего дитяти, с резким криком повернул к осине. Канючонок съежился: а вдруг бить или бранить станет?
Попутно подхватил канюк из пшеницы полевку, принес ее канючонку. Тот неловко проглотил мышь и замолчал. А куцехвостый сорочонок сидел, завидовал. Канюки между тем снялись и полетели вместе. Один сорочонок остался на осине. Да и куда ему торопиться? Успеет вырасти и всему научится. А канючонку придется скоро лететь в дальние страны, подниматься над тучами.
Засмотрелся я на птиц, и почему-то невольно припомнилась история с моим сыном. Приключилась она здесь же, у реки. Надоело ему клубнику собирать, и он давай канючить: пойду да пойду в Пески. Я не держал: пусть идет себе.
За ягодами ушел я от переброда далеко. И сколько времени прошло — не знаю. Расшумелся ветер в старых березах на оплечье бугра, нес он низовой порывистый гул из согры. И каким чудом услыхал я отчаянно-потерянный крик — сам удивился.
«Сын… — мелькнуло в голове. — Заблудился». И представилась ночь, глушь, и он один, худенький и несчастный… Никто его не услышит: травы-то давно все сметаны в зароды.
С бугра на бугор побежал к сыну. Кричал, останавливался и прислушивался: в шуме, как во сне, откликался слабый зов сынишки.
Вот сейчас настигну… Но где он? Почему только березы слышу? Снова закричал. И тогда из ложка побрел мне навстречу сын. Весь сжался в ожидании брани или шлепка.
Молча пошли мы обратно. Из-за кустов поглядывали на нас круглые омутины, мигали камышами-ресницами: дескать, урок ему будет за своеволие. Если не сыновний зов, то, как знать, чем закончилось бы все…
Поднял глаза — надо мной медленными кругами набирали высоту канюки. Родитель подбадривал молодого, а тот, с испуга или радости, пищал, но упорно поспевал за старым. Он улетал в небо, из жалкого птенца-канючонка превращался в смелую птицу.
Сын мой когда-то тоже расправит крылья. И, может, поднимется в жизни выше меня и улетит дальше. Одно бы не забыл: подать сыновний зов, когда плохо станет… Пусть не будет уже меня, зато сама земля услышит и поспешит ему на выручку.
Подростками все трое не мешали друг дружке. А как повзрослели — одна березка очутилась в неласковых ветках боярки.
Ее сверстница, будто уколовшись, отбежала и замерла над крутояром. Внизу текла в ивняковых волнах смирная летней порой речушка Барневка и выплывали вечерами сизые туманы.
Любо было мне после рыбалки присесть к березкам. С закатом попрощаться, варакушке за усладу поклониться и подышать напоследок сырыми речными запахами. И все хотелось освободить березку от цепкой боярки. Поди больно ранит она шипами ее, тонкую.
Не от уколов ли по рани весенней запекается кроваво сок на березке? Второй вон как вольно живется: никто не теснит, не тревожит.
Занесу топорик и… опустится рука. Станет жалко боярку. Ну чем виновата, если мать-природа околючила?
Так и остались они вместе вырастать.
…С каждым годом взъяренное половодье подмывало берег и он подступал ближе и ближе к березке. Оголились у нее сперва вишневые корни, свесились бессильными плетями. А как-то завернул я майским днем и… вздрогнул. Нет ее, словно и не бывало совсем. Унесла ее вода барневская и куда — не сыщешь. И другой бы не миновать взбаламученной круговерти, кабы не куст боярки.
Насупленная и упрямая, боярка удерживала за пояс свою соседку. Не только ветвями опеленала, а и корнями крепко обняла ее в земле.
И сколько ни била в грудь яра Барневка — он не оползал и не обваливался…
…Если даже не по пути, все равно сворачиваю на крутояр. Варакушку послушать и поклониться боярке. Хоть и колючая она, а с березки славит ее серенькая славка.
На опушке вырубки возле вихлястой полевой дорожки много-много лет зрела осина. А за ней густели зябко-зеленые осиночки.
Редко кто трогал поросль: коня погонять — не годится, захворает, свистульку и ту не сделаешь. Разве зайчишки зимой покусают веточки и кое-где корочку погрызут. Зато старой от кого только не доставалось. Острие топора испробовать — по ней секнут, ребятишки изгалялись — ее складешками резали. И грязь ошметками летела в нее, и дегтем — опять же ее мазали. Как она раны затягивала да ясно стволом зеленела — понять не могу.
А еще терзали осину ветра, лупили дожди до сверкания виц. Трепетала и дрожала она, но прикрывала собой осинки, сдерживала бураны и сносила все невзгоды.
…Босиком прошлепал я мимо осины детские годы и пришел, к ней с куржаком-сединой на висках. Дорожка еле-еле в доннике угадывается, а из осинок выправились лесины в обхват. Опоздал я к старой на свидание. Недавним ветром-буяном свалило ее. Видно, не выдержало сердце, надломилось что-то в ней и… пала осина на ветки тех, кого она когда-то закрывала. Приняли они ее, будто на руки, и затихла она в них.
Снял я кепку и притронулся к стволу. Выцвела кора его, нет на нем ни посеков, ни баловства ребячьего, ни дегтя, ни грязи. И вдруг екнуло в груди у меня: в морщинистых извилинах блеснула прозрачная капелька. С дождя ли, с росы ли… А может, с медно-звонких листьев шумливого осинника?
Быстро сблизили небо с увалом