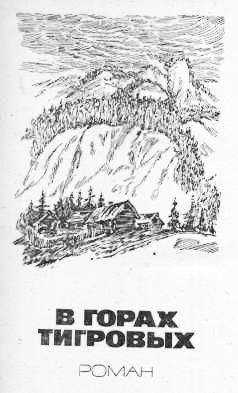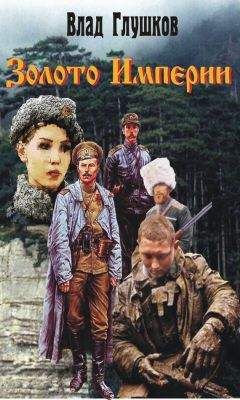А земли по Амуру! Куда ни брось взгляд, всюду плодородная земля. Меньше ее было, когда проходили отроги Малого Хингана. Но лишь миновали Зею, опять глазом ту землю нельзя окинуть. Причаливай, паши, коси, живи в свое удовольствие. Но не просто на вольные земли шли пермяки, они искали Беловодское царство. Может быть, вон за той излучиной откроется оно. Хотя Аниска и говорил, что нет тут такого царства, пустотная земля — и4 только. А тайга то подходила к реке, то снова убегала в синь далекую, небесную. Взбирались пермяки на утесы, чтобы осмотреть землю, дивились, что у Амура столько проток, стариц, озер, среди которых можно заблудиться, как в густом лесу. Но их вея Аниска, а он не заблудится. Во всяком случае, до Уссури он дорогу разведал.
Зверей добывали прямо с плотов. Чаще под выстрелы попадались изюбры и косули-гураны. Реже — сохатые и кабаны.
Выходил на берег угрюмый медведь, рылся на косах, искал гнилую рыбу, купался в амурской воде, фыркал при виде плотов, поднимался на задние лапы. Уркал, но не уходил.
Птиц на Амуре тучи. На косах кулички, в старицах гуси, утки, которые тоже при виде плотов и карбасов не спешили подыматься на крыло и улетать.
В небе кружили коршуны, чертили косыми крыльями голубень, приметив рыбину, падали на воду, ныряли глубоко. Потом с трудом выплывали, тяжело били крыльями по воде, волочили за собой Добычу на косы и там пировали или уносили в гнезда.
Пермяки в птиц не стреляли, порох жалели, пули, жалели. Без того сытность и раздолье.
Амур — великая река. Срываются здесь и шторма, да такие, что могут плоты разбить. Спешили пермяки выгрести на мелководье или загнать плоты в тихую протоку. Отстаивались, ждали, когда стихнет шторм, — и снова в путь.
— 0-го-го! Отчаливай! — Орал пермяцкий вожак.
Густым рыком отвечали ему скалы, сонное эхо долго скакало над долиной, путалось в травах, замирало. Испуганные дрофы, помахивая короткими крыльями, убегали к горизонту.
К кострам приходили инородцы, несли связки рыб, показывали топоры, просили продать. Аниска, как мог, им втолковывал, мол, рыба нам не для ча, несите соболей, тогда будут топоры. Несли соболей. Начинался торг.
Но приходил суровый гасянда, старшина стойбища с медной бляхой на груди, показывал палкой на противоположный берег, говорил:
— Манжур, манжур! — и бил своих соотечественников палкой по спинам.
— Он не велит ничего продавать, пока сюда не приплывут манжуры, пока не возьмут дань.
— Господи, Анисим, ужли по всей земле такое — дань, подати? — вздыхал Феодосий.
— Везьде, сколько я прошел, везьде, сильный завсегда катается на слабом. И вмешаться нельзя. Не коси глаза на старшинку, он не виноват, переправится сюда манжур и его же первого будет бить.4
— А надо бы задать ему трепку!
— Кончай торговать, честные купцы! — закричал Анисим.
— Может, и не найдем Беловодье, — говорит Феодосий — Сядут нам богатые на шею и будут три шкуры драть. Люд не волен.
— А где он волен? — спросил Анисим — У вас в Перми?
— Там чистая каторга супротив этого. Здесь малая каторга, там большая. Но ниче, мы не дадим грабить себя…
— Как знать. Может, придется и на поклон к кому идтить, — не унимался Анисим — Я ить хитрющий, где надо — поклонюсь, а вижу, сила на моей стороне, — дам по муслам, хошь мал, но сила есть.
Больше пермяки не приставали к деревням прибрежных людей. Проходили мимо, чтобы не накликать на себя беды.
— Зачем душу травить, смотреть на чужое горе и неволю?
Однажды Фома ушел на охоту. Все слышали выстрел в прибрежных кустах. Фома тут же и вернулся, ведя в поводу рыжего жеребца.
— Вот купил.
— Для ча? Плот затопишь.
— Подведем пару бревен… Шибко уж ладный жеребец-то!
— Где стрелял-то?
— Да дрофу хотел добыть, но промазал. Стрелок-то из меня аховый.
— Зря порох не жги. Достанем ли там, один бог ведает, — посуровел Феодосий, почуяв неладное.
Пришла ночь. Спят пермяки на плотах, в палатках. Парни пасут коней и коров на сочных пыреях. Не спится Фоме, тесно и душно в палатке. Поторопить бы ночь и уплыть от этого места! Но ночь не спешит, тихо ползет над землей. Выговориться бы с кем, выплюнуть кислую слюну изо рта, — может, легче станет.
Плохо спал в ту ночь Ларион. Ему почему-то снился убитый им в Рассошихе сторож. Но то убийство оправдано. Там он убил человека ради человека. А вот отец, похоже, ошалел: застрелил инородца ради коня. Наверное, догадались и другие.
Вышел Ларион из палатки, следом отец.
— Че не спишь, сынок?
— Думаю, не сходить ли мне к Лушке Воровой? Ест глазищами девчонка. Софка мне поднадоела.
— Грешно. Два года — и все не венчаны. Отъелся, вот и бесишься.
— Я, может, и бешусь, а вот ты для ча человека убил?4
Фома подался назад, будто его ударили.
— Мне Софка без надобности, — продолжал Ларион — Она как яловая корова. А я мужик справный, мне дети нужны. А ты хошь бы кровь на штанах замыл, с коня бы стер. Ить все видели ту кровь.
Лушка Ворова змеей-искусительницей вьется около Лариона. Против Софки она мышонок, но мышонок настырный. Видят бабы эту канитель, сердито поджимают губы.
Лушка уже созрела, падать бы надо яблоку, да некуда.
Вот и в эту ночь. Лушка потянулась по-кошачьи и сказала:
— Девки, пошли ночевать на берег!
— Верно, у костра на травке и спится сытнее, — согласились подружки.
Иван Воров заворчал:
— Ты, не дури, девка, вожжами отхожу.
— На что жить? Завез в глухомань, парней нету. За кого выходить мне замуж?
— За нашего мерина, — сощурился Воров.
— Только и осталось.
В Перми за такое непочтение к родителю не миновать бы Лушке вожжей, но здесь Ивану пришлось смолчать.
А на другом плоту перед Ларионрм стоит отец и слова не может сказать.
— Да не убивал я, — глухо бормочет он, отводя глаза.
— Убивал, тятя. Завтрева жди беды. Прознают наши про убийство и прикончат.
Фома потоптался и поспешил перевести разговор на другое:
— А ты к Лушке лыжи навострил?
— Ага.
— Не ходи, зря. Лушка сама не знает, чего хочет.
— Не шел бы, да любовь гонит. Сама Лушка зовет. Каждой бабе хочется приложить малое дитя к своему соску… Здесь о жизни дело идет, о продлении рода. А ты людей бьешь! Я еще с той поры не могу очнуться, так и вижу мертвого сторожа. Разнес ему черепушку…
— Первый раз всегда страшно.
— Не верю! И во второй раз страшно! Феодосий сидел под крутым яром и слушал этот разговор. В ушах звон, в душе метанье. Прошептал:
— Ну, вот ты и открылся, Фома Сергеевич — Вышел из-под яра, прыгнул на плот, схватил Фому за грудки, зашипел: — Ну, вот ты и открылся. Утром будем судить!