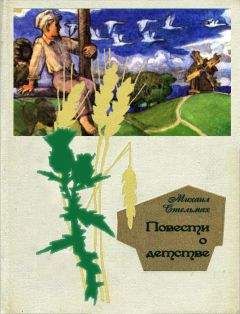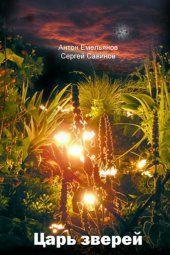в этом районе большая лежка.
Чем дальше мы шли, тем больше обнаруживалось следов на снегу. Они то вели вперед, то возвращали нас немного назад, то вдруг резко уходили влево, к нагромождениям камней на самом берегу протоки. Кстати, протока не везде хорошо промерзла. Местами вода выступала наружу и струилась узеньким ручейком по льду. Видимо, со дна пробивались теплые родники и согревали речушку. Поэтому и снег на берегу то тут, то там был талый, и хуже скользили лыжи, и мех, которым они были подклеены, прилипал. Зато здесь гораздо четче выступали следы соболя. Надыга показал мне довольно ясные отпечатки соболиных пальцев и даже когтей, а потом — то ли в шутку, то ли серьезно — заметил:
— Здесь, однако, соболь босиком бежал...
— Как это босиком? — не понял я и рассмеялся.
— Разве ты не видишь? — серьезно спросил он.
— Не вижу.
— А я все вижу.
Оказывается, когда соболь бежит небрежно, то ставит лапы глубоко, оставляя на снегу довольно ясные отпечатки пальцев. Тогда охотники считают, что зверек бежал «босиком».
Мы еще долго блуждали, то уходя слишком далеко от протоки, то снова возвращаясь к ней. Следы в конце концов привели к каменным россыпям и оборвались. Теперь сомнений не было: где-то здесь соболиная лежка.
Надыга поставил вокруг камней обметную сетку, закрепил ее колышками и навесил на сетку колокольчики.
— Ну, паря, — вздохнул он с облегчением, — пойдем чего-нибудь кушать...
— А разве выгонять соболя не будем?
— Сам выйдет, чего там.
— И дым не будем пускать?
— Нет, конечно. Соболь как выйдет ночью на добычу, так в обмет попадет. Сразу колокольчики зазвенят, скажут тебе, что соболь попался.
Нужно ли говорить, как приятен был после долгих скитаний отдых в шалаше около костра? Скоро нас так разморило, что мы легли с Надыгой на топчан, прижались друг к другу и крепко заснули.
Ночью, сквозь сон, я услышал дробный, глуховатый звон колокольчиков. Встал, выбежал из шалаша.
Густой морозный туман окутал тайгу. В пяти шагах не видно было деревьев. Колокольчики звенели, казалось, в самой глубине туманного леса, и я не сразу сообразил, что это в сетке барахтался соболь. А когда понял, вернулся в шалаш и стал будить Надыгу.
Он вскочил, протер рукавом глаза.
— Соболь в сетку попался! — закричал я.
Надыга несколько секунд прислушивался и, выбегая в лес, бросил:
— Правильно говоришь!
В полдень мы вернулись на привал, откуда бригада начала свой путь на соболевку. Вскоре сюда пришли Батами, Уза и Виктор Календзюга. Они поймали четырех соболей. А всего было добыто бригадой семь зверьков. Удэгейцы почему-то радовались, что именно семь.
— А восемь хуже? — в шутку спросил я.
— Семь лучше! — серьезно ответил Уза.
Виктор Календзюга объяснил:
— В старое время у наших удэге цифра «семь» считалась самой счастливой. Поэтому Гайба и рад, что в первую соболевку семь зверьков поймали.
Я вспомнил, что и в рассказах стариков особенно часто встречались такие фразы: «Это случилось после того, как я семь горных речек переплыл», «Это было за семь перевалов от стойбища», «Семь лебедей летели к закатному солнцу», «Семь стрел пустил я из лука» и т. д., и т. п.
Вскоре все семь шкурок уже были сняты с соболиных тушек, и Гайба надевал шкурки на гладкие деревянные пялочки шерстью внутрь, а пушистые хвосты оставлял во всей их красе — шерстью наружу.
Ровно через семь дней — счастливое совпадение! — я вернулся в Сиин. А бригада Надыги еще весь февраль бродила по следу соболя, добывая для родины «мягкое золото».
Кажется, я хорошо сделал, что побывал на соболевке, иначе, пожалуй, не было бы, как любит говорить Мунов, настоящей картины...
1
— Не думай, пожалуйста, что у тебя вся картина, — сказал мне Мунов. — Так, знаешь, не бывает, чтобы корреспондент из города приехал в наш колхоз и не зашел в гости к Олянову. Николай Иванович, я тебе скажу, старый друг удэге. Он тоже кое-чего рассказать тебе может. Помнишь или не помнишь, я тебе говорил про интересного тигра, по-нашему куты-мафа или амба? Так это у Олянова дело было. Пожалуйста, сходи к нему на стаканчик медовухи; его дом всегда открытый. — И, измерив меня взглядом, спросил: — На соболевке не худо было тебе?
Я начал рассказывать о соболевке, но Мунов, по своей привычке, поспешно перебил:
— Ладно, не говори больше. Скоро наши удэге из тайги придут, лучше расскажут.
...Меня встретил среднего роста коренастый мужчина с открытым добродушным лицом и приветливым взглядом небольших карих глаз. В простом кургузом пиджаке и мятой узенькой кепке, сидевшей на самой макушке, Олянов скорее был похож на русского мастерового, нежели на отважного таежного следопыта, всю жизнь проведшего в дебрях Уссурийского края. Однако в доме все говорило о том, что здесь живет бывалый таежник. Весь угол около дверей завешан охотничьими ружьями, патронташами, набитыми патронами, клинками с костяными ручками. Вдоль стены на самодельных тумбах стоят чучела ширококрылого ястреба и черного лебедя, кстати, весьма редкого в этих местах. А над кроватью растянута чудесная, отливающая глянцем шкура рыси. Искусные руки охотника сумели придать звериной морде почти живой облик: яростно блестели красноватые глаза хищника, из полуоткрытой пасти торчали острые, слегка тронутые желтизной клыки, а над верхней вывороченной губой топорщились длинные седоватые усы.
— Давно убили красавицу?
— Прошлой осенью, — с улыбкой ответил Олянов. — Нелегко далась. Пришлось повозиться.
— Мне удэгейцы говорили, что рысь опаснее тигра; верно это?
— Правильно говорили. Уссурийский тигр на человека не нападает. А рысь, когда идешь по тайге, только и следит за каждым твоим шагом. Чуть зазеваешься, она и прыгнет с дерева тебе на плечи. Тут уж — кто кого, как говорится...
Жена Олянова, Анастасия Петровна, полная женщина с круглым, раскрасневшимся лицом, поставила на стол эмалированную миску с пельменями, две кружки чаги, по-местному шульты, которую заваривают вместо чая. Потом принесла глубокую тарелку с янтарным медом, заметив при этом, что «медок-то бархатный, самый пользительный», и пригласила завтракать.
— Кушайте, чем богаты, тем