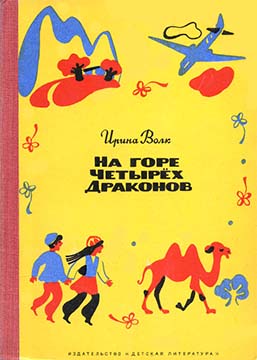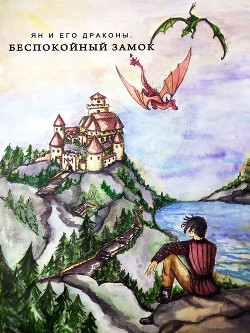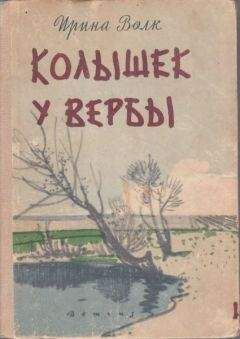Карим мягко. — Провинился Мулло-Шафе, вздумал к святой воде какие-то грязные лекарства подмешивать. Узнал я об этом, вот и приехал. Сам я теперь буду моления проводить, а его, недостойного, — Карим указал пальцем в сторону перепуганного Шакала, — не допущу больше к святым делам. Искупления от него потребуем. А ты, — он помолчал, — ступай пока в нашу хижину, туда, куда в первый раз пришёл. Побудь в одиночестве. С аллахом с глазу на глаз побеседуй. Я скоро прибуду. Жди…
Служитель поднял на Карима глаза. В них была надежда и страх. Конечно, он хотел уйти отсюда, чтобы никогда не видеть больше человека, в которого перестал верить. Но ведь он всю жизнь молился аллаху, всю жизнь верил в него, всю жизнь жил так, как учили его набожные родители. Ему было нестерпимо тяжело вот так сразу покинуть всё и остаться одному, поэтому слова Карима обрадовали и тронули его. Ведь Ходжи не может быть обманщиком. И он даёт ему возможность побыть одному, подумать обо всём.
Служитель поклонился ишану до земли.
— Я благодарю аллаха, что он послал мне тебя, — прошептал он. — Я удалюсь туда, куда ты сказал. Я верю тебе…
Он прошёл мимо Шакала и, почти шатаясь, двинулся вниз по тропке.
Карим подождал, пока его согбенная, жалкая фигура не скрылась из глаз, а потом яростно кинул в сторону Шакала короткое слово:
— Дурак!
Шакал испуганно оправдывался:
— Так я же думал, что он спит, пока я разводил лекарства.
Но Карим махнул рукой, властно остановил его:
— Хватит! Пора поумнеть! А сейчас надо подумать о более серьёзных вещах. Что-то очень разошёлся мой братец. В городском Совете побывал. Посылают будто оттуда сюда целую комиссию. С верующими хотят разговаривать. Сам собирается выступить вместе с доктором на колхозном собрании. Может, вздумает ещё обо мне рассказать? — Он помолчал. — Надо его остановить. Будем ждать удобного случая…
Бабушка Дилинор едва не столкнулась с внуком и учителем на узкой тропке, ведущей в горы. Она сегодня решила подняться к мазару, чтобы попросить того чудодейственного лекарства, от которого выздоровел Гулям. Как знать, может, он сам или кто из его друзей ещё раз поранит палец, и тогда драгоценное лекарство будет у неё под рукой.
Медленно шла она по тропке и вдруг услышала: стонет кто-то в кустах.
Остановилась, спросила:
— Кто тут?
Раздвинула кусты и увидела: лежит лицом в траве человек и трясётся, плачет. Тронула за плечо, шагнула ближе:
— Что с тобой, сынок? Может, помочь чем?
А он, испуганный, вскочил на ноги. Так это же тот, третий, что у мазара прислуживает. Прислужник замер в нерешительности. А бабушка снова:
— Что с тобой?
Тут он увидел в её руках баночку для мази, понял, куда она идёт, и вдруг закричал:
— Не ходи, обманщик он! Я сегодня всё узнал… Ухожу от него.
Растерялась Дилинор, выронила баночку, села на траву — ноги отказали. Спросила тихо:
— О чём ты?
А он как закричит опять:
— Я ведь за ним шёл! Верил. Думал, аллах ему силу дал. А он в аллаха не верит.
Бабушка Дилинор взялась за сердце:
— Ишанам не верит! Горе нам!..
— У меня отец ишаном был, — задыхаясь, говорил служитель мазара. — Меня в святой вере воспитали. Я в школу не пошёл. Стал аллаха славить. А этот всю душу во мне перевернул. Больше не могу. Разбивает он во мне веру.
Он увидел в траве баночку, схватил её, отшвырнул далеко в кусты.
— Не бери у него лекарств. Если бы ты знала, откуда они…
Хотел что-то ещё сказать, потом махнул рукой и скрылся.
А бабушка Дилинор так и осталась сидеть, встревоженная, недоумевающая. Как же так? Сам главный ишан отводит веру людей от аллаха? Чего не досказал ей этот несчастный?
Ей уже не под силу было идти вверх. Она поискала глазами баночку, не нашла её и спустилась вниз, в кишлак, так и не добыв чудодейственной мази.
Весь день была бабушка Дилинор сама не своя: всё стояли перед ней безумные глаза служителя, звенел в ушах взволнованный, полный ненависти голос.
Кажется, первый раз в жизни она была довольна, что внука нет дома. Она не ждёт его, не вслушивается в насторожённую тишину, не выходит за дувал. Она лежит без сил на своих одеялах и думает, думает… Тяжело ей, не с кем посоветоваться. Случилось такое, что никогда бы не могло даже прийти в голову.
С самого утра у Бобо Расулова очень болело сердце. За последнее время он вообще стал чувствовать себя хуже. Ныли старые раны, полученные ещё в боях с басмачами.
Сегодня во рту было горько, а сердце постучит-постучит и остановится… Или, может быть, это просто кажется?.. В такую жару нелегко больному человеку. И как раз трудное время — перед началом учебного года. Да ещё и эта история с мазаром, встреча с братом сильно взволновали. Всю ночь он сидел сегодня за письменным столом, готовился к выступлению на собрании. Придётся коснуться своего личного, больного. Не пощадить самого себя и рассказать всю правду о брате, который, приняв обличье священнослужителя, и сейчас продолжает бороться против Советской власти.
Бобо Расулов вздохнул. Ох, как болит сердце! А ведь надо непременно заглянуть в школу возле ущелья. В двух школах он уже был. Как-нибудь доберётся и до третьей. А потом вернётся домой, полежит немного.
Медленно шёл он вдоль дороги. На всём пути, мурлыкая, как большая кошка, сопровождал его арык. Впереди знакомая зелень огромного чинара. Вернее, это не один чинар, а двенадцать братьев, выросших друг возле друга несколько веков назад. Сплетаясь ветвями, прижавшись друг к другу, они образовали огромный зелёный прохладный шатёр, под которым даже в самый жаркий зной гуляет стремительный ветер.
Идти под солнцем было так трудно, что учитель мечтал: дойдёт до деревьев и отдохнёт немножко, прежде чем двигаться дальше.
Уже близка тень зелёного шатра. Вот-вот можно будет сесть на широкий, раскинувшийся словно скамья корень, закрыть на минутку усталые глаза. Учитель поднимает руки к вискам, которые нестерпимо болят. Вдруг сжимается сердце, и Бобо Расулов, задыхаясь, падает.
Никого нет вокруг. Никто не видит, что случилось с учителем. Из-за поворота появляется мотоцикл и останавливается. Двое бегут к распростёртому на дороге телу. Они наклоняются к лежащему. И вдруг смеётся Карим. Вот где довелось встретиться! Значит, выдался наконец удобный случай, которого он так ждал.
Карим оглядывается. Глаза его темнеют. Может,