Предоставленные сами себе — когда я промывал унцию-другую золотых крупинок в лотке или в своем канале, — медвежата проводили время, подстраивая друг другу хитроумные каверзы, скатываясь единым рычащим мохнатым клубком с обрыва или с вершины скалы, криками и фырканьем рассказывали мне о своих обидах. Они пытались втянуть меня, как раньше втягивали мать, в свои забавы и ссоры. Недели сменяли друг друга, и мне становилось все труднее оставаться в стороне, когда они втягивали меня в свои игры.
У меня никогда и в мыслях не было баловать медвежат. Строго говоря, моя опека была лишь частью их детства, и им предстояло из нее вырасти. Я был при них вроде дядьки. Исполняя эту обязанность, я стремился приучить их, насколько возможно, к строгой дисциплине, как у медведицы-матери, не допуская ни малейшего ослушания, дерзости или воровства. Ни одна медведица не потерпит ослушания, и я никогда не прощал беспричинных капризов. Я позволял им веселиться вовсю, когда это веселье было вызвано здоровыми играми. Но я осторожничал до крайности, был, по мнению индейцев, строже, чем любая медведица.
Медведица так щедра на ласку со своими малышами, что человеку до нее далеко. Она улаживает ссоры медвежат поцелуями и нежными звуками, она переносит их за шкирку в чистый рай медвежьего детства, где все они смеются, играют, едят, пьют и… к чертям завтрашний день. То, что медвежата сумели приспособиться к моему жесткому миру, гораздо удивительнее, чем те уступки, на которые пришлось пойти мне.
Но случалось, что у меня лопалось терпение, и тогда я всей душой присоединялся к совету покойного Уильяма Т. Хорнадея: «Если твой враг обидит тебя, подари ему медвежонка-барибала». Помню, как-то раз Расти и Дасти согнали с гнезда куропатку в одном из субтундровых лугов севернее Наггет-Крика. Это произошло так быстро, что, хотя я был всего в нескольких метрах, я не смог предупредить несчастья. Эти двое, привыкнув глотать и жевать лягушек, хомяков, леммингов и полевок, еще ни разу не имели дела с такой крупной добычей, как куропатка. Пока они гоняли несчастную птицу и вырывали у нее перья, Скреч залез в гнездо и слопал все шесть яиц. Чтобы продлить удовольствие, Расти и Дасти продолжали вырывать перья и отфутболивать кричащую птицу друг другу, пока она, вконец ощипанная, не издохла, и тогда эта парочка впервые серьезно подралась над ее тушкой. Больше для науки, чем для наказания, я отобрал мертвую птицу и сунул ее в барсучью нору. В таких случаях моя роль воспитателя была мне противна.
Как-то в один очень удачливый день я так увлекся своим старательским делом, что совсем забыл о проказливой троице. Медвежатам было запрещено одним уходить в заросли кошачьего когтя на северном берегу Наггет-Крика, потому что там одна дикая утка, моя старая приятельница, высиживала девять яиц, из которых вот-вот должны были вылупиться утята. В тот день утка вдруг взвилась вверх и кружила то надо мной, то над своим гнездом, громко возвещая об ужасной трагедии.
Я так и не примирился с жестокостью природы, которая позволяет зверям разорять птичьи гнезда.
Расти, Дасти и Скреч, очень чувствительные к колебаниям моего настроения, если они понимали, в чем дело, в тот вечер уползли под лавку и забились в самый дальний угол. Я не стал их ругать за злодейство. Они сами поняли по моим отчаянным крикам и подавленному настроению, как я к этому отнесся. Обсуждать было нечего. Они меня не обманывали сознательно, просто тайком от меня ушли за реку, на запрещенную территорию. Это было что-то вроде первородного греха, и тут уж ничего не поделаешь. Много позже, когда я уже спал, три маленьких разбойника осторожно приползли ко мне под одеяло, тихонько скуля, вымаливая утраченное душевное спокойствие. Я уверен, что они ожидали наказания, ведь медведи очень обижаются на несправедливость или оскорбление. Они всегда наказывают своих обидчиков. Очевидно, и сейчас эти трое ожидали, что их накажут, как и всегда, когда они воровали что-нибудь на кухне.
После того как Расти открыл остальным, как вкусны большие черные муравьи, все трое порой часами преследовали и пожирали любое насекомое, ползающее или летающее. Любопытный эпизод связан с гнездом шершней. Дасти была гораздо наблюдательнее и агрессивнее братьев, и, найдя гнездо, которое свисало с большой ольховой ветки, она сделала вид, будто ей до него не достать, заставила Скреча залезть на дерево и сбить миниатюрную постройку на землю. Скреч вообще обладал настоящим талантом попадать в переделки. Он сбил гнездо с третьего удара, но разъяренные обитатели успели искусать его уши, нос и голые подошвы. Пока он, сидя на дереве, визжал от боли, Расти и Дасти не только слопали оставшихся в гнезде шершней, но разжевали и проглотили их бумажный домик.
Когда я громко расхохотался над растяпой Скречем, он забыл об укусах шершней, слез с дерева и вместе с остальными подошел ко мне. С очень серьезным видом медвежата стояли у моих ног, укоризненно мотали головами и рычали, чтобы показать, как они не одобряют такого оскорбительного смеха. После этого я не смеялся над медвежатами и не пытался над ними подшутить. Я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, будто медведи не умеют смеяться, потому что как раз это они, по-моему, и умеют. Расти, Дасти и Скреч сознательно искали смешных развлечений, которые повеселят и человека, и медведей. Каждый день представлялся случай от души похохотать, но заодно с медвежатами, а не над ними. Они очень тонко чувствовали это различие.
В часы досуга, когда мы возились на песчаном берегу озера Бабин или кувыркались в шумной схватке на лугу за хижиной, у меня не раз появлялось искушение обучить этих способных учеников каким-нибудь цирковым фокусам.
Маленькие задаваки с удовольствием ходили на передних лапах, делали сальто или скакали в каком-то диком подобии фламенко.
Ручные медведи, конечно, самые выдающиеся циркачи среди всех зверей. По мнению дрессировщиков, они не только легко поддаются обучению, но и гораздо более надежны в работе — даже больше, чем собаки и обезьяны, — ведь они овладевают богатым набором сложных трюков. Меня не переставало удивлять, насколько просто ладить с медведями. Их плохие привычки были немногочисленны и легко преодолевались. Поскольку я не видел никакого проку для медведей в трюках, я устоял перед искушением их этому обучать.
Июль кончался, и вот уже месяц не было дождей. Съедобные грибы — пластинчатые и дождевики, сморчки и белые, — которых обычно в это время было видимо-невидимо, исчезли, и на полянах, и в лесу у гниющих стволов. Ягоды еще были, но все труднее становилось выкапывать луковицы и корневища растений, потому что лесная подстилка и почва высохли. Наша восьмикилометровая охотничья территория уже не могла прокормить трех подросших медвежат. Птицы из нашего района улетели. Нам пришлось осваивать новую территорию, а это означало браконьерство на чужой земле, где кормились другие звери, и тем самым нарушение равновесия всего лесного сообщества. Так как район реки Наггет-Крик казался нам самым богатым, как-то утром мы двинулись по ее берегам сквозь заросли кошачьего когтя, дикого винограда, ивняка и ольхи к бобровой запруде в миле от озера. С полдюжины бобров, запасающихся молодыми ивовыми побегами, укрылись в хатке на острове, который они построили посреди пруда. Приняв это бегство за вызов, медвежата плюхнулись в воду и поплыли к островку. Бобры не показывались, и медвежата решили, что интереснее ловить крупных лососей. Меня всегда поражала ловкость и сила их передних лап. Не прошло и минуты, как мокрые насквозь медвежата сидели на мелководье и лопали каждый свою красную рыбину.
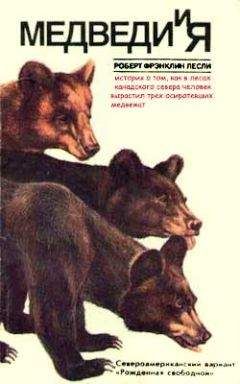


![Rick Page - Make Winning a Habit [с таблицами]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)

