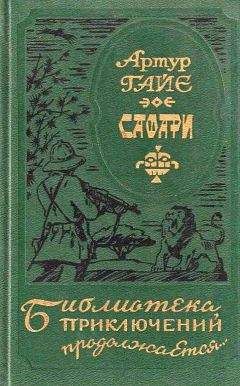Плоский откос был покрыт вереском. Увидев, что его засохшие веточки достаточно сухи, так что можно было попытаться разжечь ими огонь, я приказал остановиться. Сунув в руки носильщика моей камеры котелок, я послал его за водой. Но мы уже сожгли целые охапки нашего легкого топлива, когда он вернулся, к сожалению, с пустым котелком. Воды не было! Из наших платьев еще текла ручьями вода, и мир вокруг нас и под нами, казалось, состоял исключительно из воды, а этот парень вернул мне пустой котелок. Я сейчас же послал еще четверых за водой по разным направлениям; мы, оставшиеся, сожгли за это время половину всего запаса вереска на Килиманджаро. Через полчаса все посланные вернулись, и ни один из них не нашел ни единой капли воды.
Лично убедившись, после целого часа поисков, что в этих ущельях, где скалы и камни были насыщены водой, действительно невозможно зачерпнуть ни одной кружки воды, мы пустились в дальнейший путь без согревающего кофе. При порывах ледяного резкого ветра мы поднимались через быстро мчавшийся белоснежный туман по пустынной вершине все выше и выше.
Я шел впереди каравана и увидел направо в одном из ущелий блистающий белизной квадрат на скале и под ним обуглившиеся ветви костра. На этом квадрате удивленному миру крупнейшими буквами возвещалось, что сие место было высшей точкой, достигнутой сэром Виатт при его восхождении на Килиманджаро! Я остановился на минуточку, подивился и покачал головой. Затем у меня явилась мысль, что эта высокопоставленная персона вряд ли выбрала бы это место для бивуака, если бы здесь не было возможности приготовить чашки чаю, почему и следовало заключить, что поблизости должна была находиться вода. И действительно, после некоторых поисков я обнаружил под нависшей скалой человеческие следы и, идя по ним, через четверть часа утомительного карабканья нашел небольшое отверстие в скале, наполненное до краев чистой и свежей водой. Но и здесь, не будь у нас твердого спирта, мы остались бы без кофе, так как, несмотря на все наши поиски, вокруг не оказалось ничего пригодного для разведения костра. Приятно согревшись горячим напитком, мы набрались такой беспардонной храбрости, что Биена чернильным карандашом написала по-английски на квадрате нашего высокопоставленного предшественника следующее: «Несколько проклятых буров и немцев отсюда только и начали свое восхождение»; она подписала наши имена и поставила число.
Ледянисто-холодные, обвеваемые ветрами и туманами вершины, замерзающая трава и вереск, блестящие соломенные цветы и очаровательные темно-голубые печеночницы; изредка одиноко стоящий куст можжевельника; в небе сплошная масса светло-серого тумана, а под нами по откосам горы и в глубокой равнине огромное, серое бушующее море облаков, — вот какой был вид на высоте трех с половиной тысяч метров над уровнем моря. Но воздух этих горных высот был так легок, что я не чувствовал ни малейшей усталости от четырехчасового подъема, — наоборот, все бодрее и быстрее шагал вперед и скоро очутился далеко впереди всех остальных. От прежней тропинки почти не осталось следа. Но эту местность я при своем прежнем шестидневном пребывании в хижине Петра очень хорошо изучил, вплоть до каждого горного ручейка и каждой скалы, и все это сохранилось у меня в памяти.
Последний подъем в пятьсот метров я преодолел в какой-нибудь час. Мои ноги, казалось, сами собой летели по разрушенным, покрытым растениями камням. Туман поредел, стал прозрачным, сквозь него проступила глубокая синева неба. Глухой однообразный шум нарушил тишину горной выси; с каждым моим шагом этот шум нарастал, пока не превратился, наконец, в настоящий грохот. Тогда только я понял, что странное, своеобразное растение, называемое джонстонианой, которое я увидел еще раньше, растет на берегу пенящегося и шумящего ледникового ручья. На противоположной стороне с высокой гладкой скалы глядела хижина Петра. Солнце отражалось на ее блестящей крыше из волнистого железа, а стены окружены были туманом.
Немного позже я стоял перед дверью хижины, глядел, как солнце садилось за резко очерченным краем горной седловины, как ярко сияли в пламени заката темные скалы на вершине Мавенци и мощный ледяной купол Кибо, и вспоминал тот час, когда двенадцать лет тому назад посланец принес мне сюда весть о возникновении того пожара, который впоследствии охватил весь мир.
Когда пришли остальные, уже стемнело. Носильщики устали, но были довольны, а девушки были в полном восторге от этой экскурсии. Только Том, недовольный трудным подъемом, все время ворчал. Пока не прибыли последние пять человек, которым было поручено кроме их небольшой ноши захватить еще и дров из лесной полосы, мы, конечно, не могли зажечь костра и мерзли порядком. Но чувство холода и голода и даже раздраженность Тома исчезли, когда над темным силуэтом Меру поднялась луна. Сказочный ледяной купол засветился в голубом сиянии, поднимаясь над черной вытянутой седловиной к сверкающему звездами, глубокому, как пропасть, небу. Вид этот сверкал такой неземной красотой, что нам казалось, будто бы мы перенесены на луну или на какую-либо другую потухшую планету мирового пространства. Сырые камни быстро покрылись сверкающей ледяной коркой, и ветер, дувший с ледников, остро резал лицо и руки, но мы, погруженные в созерцание, стояли недвижимо.
Наконец мы услышали звук шагов по замерзшим лужам. Пришли наши носильщики с дровами, и скоро запылал в печурке хижины веселый потрескивающий огонь. Негры тоже развели большой костер перед своим навесом. Его яркое пламя, несомненно, было видно с Вапара на отдаленном плоскогорье. Всю ночь мы поддерживали огонь в печурке, кутаясь в то же время в пальто и одеяла, и все же на другое утро все сознались, что сильно мерзли ночью. Внезапный крик девушек заставил меня выбежать из хижины. Они показывали, онемевшие от удивления, на полное ведро, в котором вся вода до дна превратилась в лед. Это было зрелище, никогда не виданное молодыми девушками, родившимися в Африке.
Следующий день мы готовились к экскурсии на самый ледник. Часть носильщиков отправилась вперед, чтобы притащить дров и воды в пещеру Майера, где туристы проводят последнюю ночь перед восхождением на ледник. Остальная часть негров спустилась вниз в девственный лес, чтобы принести сюда новый запас дров. Я же, с носильщиком камеры Думу, поднялся на пятьсот метров по хаосу скал из лавы до горной седловины и сделал снимки для фильма, а также сфотографировал наверху при ярком солнечном сиянии обе одинокие вершины гор.
И здесь, на высоте четырех тысяч шестисот метров, мне впервые в жизни пришлось испытать горную болезнь. Ужасная головная боль, головокружение, тошнота и бесконечная усталость подавляли меня, и я замечал, как с каждой минутой я становился все раздражительнее; но все это быстро прошло, когда мы стали спускаться обратно к хижине Петра. Только сердце долго еще билось неровными толчками и невольно сжималось при мысли о том, что предстояло еще выдержать послезавтра на высоте шести тысяч метров.