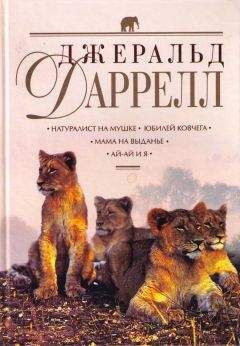Все скалы были четко разделены на отдельные зоны. Только с первого взгляда они напоминали гигантский сумасшедший дом, полный сидевших чуть не друг на друге птиц. По прошествии некоторого времени вы замечали, как аккуратно все поделено на сферы обитания. Хохлатые бакланы занимали бельэтаж, выше размещались гагарки, кайры и другие виды чистиковых. На уступах повыше квартировали моевки и глупыши, а на самой вершине жили клоунообразные тупики. Среди вечно влажных от морского прибоя обломков скал, в щелях и пещерах, образованных огромными валунами, располагались хохлатые бакланы в блестящем черно-зеленом оперении, с сияющими изумрудными глазами. Когда мы карабкались над их гнездами, упитанные темно-шоколадные птенцы в страхе прижимались к скалам, а их более воинственные родители пугали нас резким карканьем, яростно горящими глазами и поднятыми хохолками. Полагаю, только отчаянный смельчак может осмелиться засунуть руку в гнездо хохлатого баклана, так как клюв его остр, точно лезвие ножа.
На огромных обломках лежащих в море скал и утесах гнездились большие бакланы. Похожие на своих собратьев, хохлатых бакланов, они отличаются от последних отливающим бронзой оперением и белыми подбородком и щеками. Большие бакланы любят сидеть на утесах с раскинутыми в стороны крыльями, напоминая геральдические фигуры или гигантских стражей, охраняющих въезд в средневековый французский замок. В позе баклана, когда он сушит крылья, на мой взгляд, есть что-то доисторическое. Возможно, так же некогда сидели птеродактили.
С нашего командного пункта был виден лежащий в сотнях футов от берега, прямо напротив нас, огромный утес в форме гигантского куска сыра чеддер, толстым краем уходящий в море. С такого расстояния казалось, что утес покрыт снегом; вблизи же все это скорее напоминало многоярусную и чрезвычайно неопрятную каминную доску, заставленную множеством ужасающе безвкусных белых фарфоровых безделушек с надписями типа «Привет из Борнмута». На этом утесе нашли пристанище десятки тысяч олуш, чьи визгливые крики намного превышали допустимый для слуха уровень. Сказать, что этот птичий город находился в движении, значит не сказать ничего: Нью-Йорк в час пик по сравнению с ним спал беспробудным сном. Олуши высиживали птенцов, кормили их, флиртовали, спаривались, чистили перышки и легко взмывали вверх на своих шестифутовых крыльях. Сливочно-белые тела, черные как смоль концы крыльев и ярко-оранжевые головки делали их сказочно прекрасными. Ступая по берегу неуклюже, вперевалку, они преображались, когда взлетали с утеса и парили в воздухе, словно изящные грациозные дельтапланы. То были поистине совершенные создания с длинными, заостренными, словно обмакнутыми в черную краску концами крыльев, острыми хвостами и голубыми кинжалообразными клювами. Без единого взмаха крыльями, используя лишь различные потоки воздуха, они плавно, точно пущенный по льду камень, скользили в голубом небе. Вот они подлетают к утесу, почти касаясь его кончиками крыльев, неожиданно разворачиваются и, сложив крылья, приземляются так быстро, что глаз не успевает уловить движение. Только что в небе висел огромный черно-белый крест, и вот уже за какие-то доли секунды он превратился в беспокойного, горластого обитателя птичьей колонии.
Чуть дальше, в открытом море, мы наблюдали за их невероятной техникой ловли рыбы. Зорко вглядываясь в глубину своими бесцветными глазами, олуши летят в сотне футов над поверхностью воды. Неожиданно они разворачиваются и, отведя огромные крылья назад, что делает их похожими на наконечник стрелы, камнем падают вниз. Войдя в воду на огромной скорости и подняв фонтан брызг, они исчезают в глубине, чтобы через минуту вынырнуть с зажатой в клюве рыбой. Наблюдать, как этим одновременно занимается тридцать — сорок олуш, обнаруживших косяк рыбы, — зрелище настолько потрясающее, что дух захватывает.
Целый день мы напряженно работали, снимая гигантский птичий базар, изредка прерываясь, чтобы перекусить. Погода стояла отменная, и от ярких солнечных лучей, отражавшихся от воды, мы все сильно обгорели. Лицо Ли стало таким красным, что я усмотрел в ней некоторое сходство с тупиком в парике — правда, почему-то это сравнение ничуть ее не обрадовало. К вечеру нам удалось заснять на пленку весь птичий распорядок дня; привыкнув к нашему соседству, птицы скоро перестали обращать на нас внимание и продолжали заниматься привычными будничными делами: воспитывали детей, любили друг друга, ссорились с соседями — словом, вели себя совсем, как мы.
Когда свет начал меркнуть и небо из голубого превратилось в бледно-лиловое, мы собрали нашу аппаратуру и с сожалением покинули птичье царство. Не буду описывать все мытарства, с которыми мне пришлось столкнуться при подъеме на скалу, скажу лишь, что путь наверх оказался в несколько раз тяжелее спуска. Достигнув вершины, я как можно дальше отполз от обрыва и только тогда лег на спину, уставившись в бледнеющее вечернее небо; тут же Джонатан, проявляя истинно христианское милосердие, выудил из своего баула бутылку «гленморанжа» и принялся усердно меня потчевать. Потом мы долго шли по бархатистому дерну, через фиолетово-коричневые в свете сумерек заросли вереска, через мерцающую вокруг пушицу, а с неба доносился свист крыльев пикирующих на нас в темноте огромных темных поморников.
Невероятно, как за один день нам удалось завершить такую колоссальную работу. Оставшиеся несколько кадров с морским пейзажем были благополучно досняты на следующий день. Итак, мы распрощались с величественным мысом Германес и возвратились на остров Джерси.
На Джерси мы собирались снимать жизнь равнинных морских побережий. Хотя сам остров невелик (всего девять миль в длину и пять в ширину), его береговая линия настолько изрезана, что протяженность побережья довольно большая. В пользу нашего выбора говорило и то, что море здесь относительно чистое, а огромный, 34-футовый прилив, отходя, оставлял десятки акров великолепных скальных озер, изобилующих самыми невероятными морскими созданиями.
Море — особый, удивительный мир. Это как бы другая планета со своей, отличной от нас, жизнью, с неповторимыми, причудливыми и красочными формами. С точки зрения натуралиста, кромка моря — это увлекательнейшая экосистема, где многие создания живут, если можно так выразиться, шиворот-навыворот, находясь попеременно то в воде, на глубине нескольких футов, то на суше. Приспособлений к такому напряженному жизненному графику, как нетрудно догадаться, множество, причем самых разнообразных. Взять, например, обыкновенного моллюска-блюдечко, превосходно адаптировавшегося в столь необычных условиях обитания. Его шатровой формы раковина отлично противостоит прибою. В процессе эволюции животное выработало округлую мускулистую стопу, образующую нечто вроде присоски, с помощью которой оно намертво прикрепляется к скале. Попробуйте его оторвать, и вы в этом убедитесь. У блюдечка имеются адаптивные жабры, окутывающие тело точно покрывалом. Если при отливе это хрупкое приспособление высохнет, животное не сможет дышать и погибнет. Но раковина моллюска так плотно прилегает к скале, что даже во время отлива удерживает определенное количество влаги и жабры все время остаются влажными. Такое тесное слияние возможно благодаря тому, что моллюск своими раковиной и присоской постоянно подтачивает камень. В результате в камне появляется округлое, соответствующее форме основания раковины углубление, а раковина, стираясь, еще больше прилегает к скале.