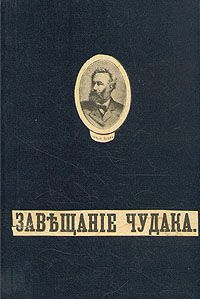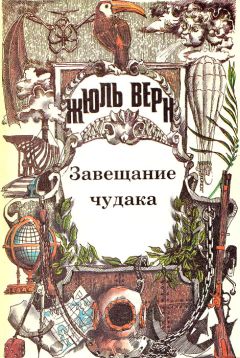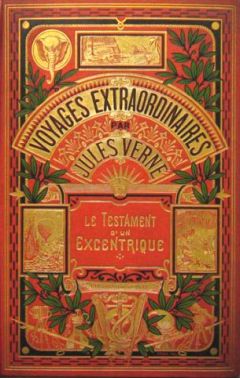— Да, друзья мои, это я, безусловно я, Гарри Т. Кембэл, один из «шести».. Это вы меня видели вчера марширующим около колесницы. Обратили вы внимание на то, как я держался? С видом, преисполненным достоинства, и стараясь не дать своей радости проявиться слишком шумно, хотя я никогда еще в жизни не присутствовал на таких веселых похоронах. И всякий раз, когда я отдавал себе отчет в том, что он тут, рядом со мной — этот умерший чудак… знаете ли, что я тогда говорил себе? А что, если он не умер, этот достойный человек?! Если из глубины его гроба раздастся вдруг его голос? Если он неожиданно появится, по-прежнему жизнеспособный? Я надеюсь, что вы мне поверите, когда я скажу, что если бы. это случилось и Вильям Дж. Гиппербон поднялся вдруг из своего гроба, подобно новому Лазарю, я ни за что не позволил бы себе за это на него рассердиться и упрекать за несвоевременное воскресение. Ведь вы всегда — не так ли? — имеете право воскреснуть, если вы не окончательно еще умерли…
Вот что сказал Гарри Т. Кембэл, но надо было слышать, как он это сказал!
— А как вы думаете, — спросили его, — что произойдет пятнадцатого апреля?
— Произойдет то, — ответил он, — что нотариус Торнброк ровно в полдень вскроет завещание.
— И вы не сомневаетесь в том, что «шестеро» будут объявлены единственными наследниками покойного?
— Разумеется! Для чего же, скажите, пожалуйста, Вильям Гиппербон пригласил нас на свои похороны, как не для того, чтобы оставить нам свое состояние?
— Кто знает!
— Нехватало, чтобы он нас побеспокоил, ничем за это не вознаградив! Подумайте только: одиннадцать часов шествовать в процессии!
— А вы не предполагаете, что в завещании содержатся распоряжения более или менее странные?
— Это возможно. Так как он оригинал, то я могу всегда ждать от него чего-нибудь оригинального. Во всяком случае, если то, чего он желает, исполнимо, то это будет сделано, а если неисполнимо, то, как говорят во Франции, «это сделается само собой». Могу только сказать, друзья мои, что на Гарри Т. Кембэла вы можете всегда положиться — он ни на шаг не отступит.
Нет! Ради чести журналиста он не отступит, в этом могут быть уверены все те, кто его знает, даже те, кто его не знает, если только найдется такой человек среди населения Чикаго. Каковы бы ни были условия, предъявляемые покойным, главный репортер газеты Трибуна их принимал и обязывался исполнить до конца. Даже если бы дело шло о путешествии на луну, он все равно отправился бы и туда. Только бы хватило воздуху его легким, а он уж на своем пути не остановится!
Какой контраст между этим решительным и смелым американцем и его сонаследником, известным под именем Германа Титбюри, жившим в торговом квартале города!
Сотрудники газеты Штаат-Цейтунг позвонили у дверей дома № 77, но не смогли проникнуть в квартиру.
— Мистер Герман Титбюри дома? — спросили они через приотворившуюся дверь.
— Да, — ответила какая-то великанша, неряшливо одетая, неряшливо причесанная, похожая на драгуна в юбке.
— Может ли он нас принять?
— Я вам отвечу, когда спрошу об этом миссис Титбюри. Оказалось, что существовала также миссис Кэт Титбюри, пятидесятилетняя особа, на два года старше своего мужа. Ответ, переданный в точности ее прислугой, был следующий:
— Мистеру Титбюри не для чего вас принимать, и он удивляется, что вы позволяете себе его беспокоить.
Между тем вопрос шел только о том, чтобы получить доступ в его квартиру, а отнюдь не в его столовую, и чтобы собрать несколько сведений, касавшихся его самого, а не несколько крошек с его обеденного стола. Но двери этого дома так и остались запертыми, и негодующие репортеры газеты Штаат-Цейтунг так ни с чем и вернулись в редакцию.
Герман Титбюри и Кэт Титбюри представляли собой чету, самую скупую из всех когда-либо совершавших свой жизненный путь по этой «долине слез», но они сами, между прочим, не прибавили ни единой капли своего сострадания к людям. Это были два сухих, бесчувственных сердца, бившихся в унисон. К счастью, небо отказалось благословить этот союз, и их род заканчивался с ними. Будучи очень богатыми, они нажили себе состояние не торговлей и не промышленностью. Нет, оба они, эти рантье (миссис Титбюри принимала в этом такое же участие, как и ее муж), посвятили себя деятельности мелких банкиров, скупщиков векселей по дешевой цене, ростовщиков самой низкой категории, всех этих жадных хищников, которые разоряют людей, оставаясь все время под покровительством закона, того закона, который, по словам знаменитого французского писателя, был бы очень удобен для негодяев… если бы… не существовало… Бога!
Титбюри был человек невысокого роста, толстый, с рыжей бородой совсем такого же цвета, как волосы его жены. Железное здоровье позволяло им обоим никогда не тратить и полдоллара на лекарства и на визиты врачей. Обладатели желудков, которые способны были все переварить, желудков, какие должны были бы иметь одни только честные люди, они жили на гроши, и их прислуга привыкла к голодному режиму. С тех пор как Герман Титбюри кончил заниматься делами, у него не было никаких сношений с внешним миром, и он был совершенно в руках миссис Титбюри, самой отвратительной женщины, какую только можно себе представить, которая «спала со своими ключами», как говорят в народе.
Чета эта жила в доме с окнами, узкими, как их мысли, снабженными, так же как и их сердца, железными решетками, в доме, похожем на железный сундук с секретным замком. Его двери не открывались ни для посторонних, ни для членов семьи — кстати, родни у них не было, — ни для друзей, которых они никогда не имели. Вот почему и на этот раз двери остались закрытыми перед газетными репортерами, явившимися за информациями.
Но и без непосредственного обращения к чете Титбюри легко было судить о их душевном состоянии, наблюдая за ними с того дня, когда они заняли свои места в группе «шестерых». Сильное впечатление произвело на Германа Титбюри его имя, напечатанное в знаменитом первоапрельском номере газеты Трибуна. Но не было ли еще других каких-нибудь жителей Чикаго с этой же фамилией? Нет! Ни одного, во всяком случае ни одного на улице Робей-стрит, в доме № 77. Допустить же, что он рисковал сделаться игрушкой какой-нибудь мистификации, о нет! Герман Титбюри уже видел себя обладателем шестой части громадного состояния и только огорчался и злился, что не был избран судьбой в качестве единственного наследника. Вот почему к остальным пяти претендентам он чувствовал не только зависть, но презрение и злобу, вполне солидаризируясь с командором Урриканом. Читатель легко может себе представить то, что он, Титбюри, и его жена думали об этих пяти «самозванцах».