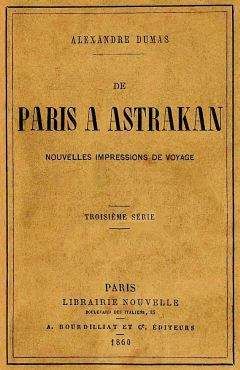Тогда император подозвал одного из адъютантов, одного из тех, в ком был уверен, ― месье Михаила Лазарева, приказал ему немедленно ехать в Кронштадт и внезапно окружить гостиный двор. Михаил Лазарев исполнил приказ; он нашел в продаже товары, о которых донесли крестьяне, приказал опечатать лавки, взял их под охрану часовых и вернулся к императору с докладом о выполненном задании. Император распорядился преследовать виновных по всей строгости закона. Но в первую же ночь, на 21 июня, по случайности, в гостином дворе Кронштадта занялся огонь, и сгорел не только базар ― от пола до стропил, заодно сгорели склады снастей, строительного леса, пеньки и гудрона, принадлежащие правительству. Это было недурно устроено; и зачем императору вздумалось преследовать жуликов? Вне сомнений, он принес повинную за эту попытку, ведь «Газета Санкт-Петербурга» даже не упомянула о пожаре, хотя он был виден из любой точки залива.
Желая уточнить некоторые детали о способах воровства в России, я обратился одному из моих друзей, и он согласился помочь мне получить более полное представление об управляющих и исправниках.
― Через кого вы мне это организуете?
― Через них самих.
― Они сами расскажут мне, как воруют?
― Ну да, если внушите доверие к себе и дадите слово их не называть.
― И когда же?
― Я жду послезавтра исправника большого села, что принадлежит короне и соседствует с моими землями. Мы предложим ему выпить, вино развяжет язык, и я оставлю вас вдвоем под предлогом, что у меня рандеву в клубе. Вам останется, как следует, его разговорить.
Через день я получил приглашение друга отобедать: прибыл тот самый исправник. Я позаботился о способе, позволяющем наверняка развязать язык гостя из деревни, и намешал ему «Икамского Замка» с шампанским; я начал расспрашивать этого человека; он два-три раза вздохнул и меланхолически:
― Ах, братец![129] ― сказал он. ― Времена очень меняются, и дела делаются уже не так просто, как прежде. Крестьянин становится все хитрее и вьет веревки из тех, кто имеет несчастье с ним связываться.
― Расскажите мне об этом, galoubchik ― голубчик[130], ― сказал я, ― и вы найдете во мне человека, с которым вы можете поделиться своими огорчениями.
― Ну, хорошо; прежде, глубокоуважаемый месье, я служил в уездном городе и получал 350 рублей ассигнациями (320 франков, если перевести на деньги Франции); у меня была семья из пяти человек ― пусть, я жил так же хорошо, как другие приличные люди, а хорошо оттого, что раньше отлично понимали, что честный человек, который лояльно служит правительству, должен есть и пить. Теперь уже не то, нужно затягивать пояс. Это называют улучшением, почтеннейший месье; я же, я называю это безобразным разорением.
― Что вы хотите! ― перебил я его. ― Эти дьяволы от философии породили либералов, либералы породили республиканцев; а кто называется республиканцем, у того на языке война со злоупотреблениями, экономия, реформы ― все гадкие и непристойные слова, что я презираю так же, как и вы, если не больше.
Мы нежно пожали друг другу руки, как делают люди, находя, что их мнения полностью совпадают. После этого я твердо верил, что у моего собеседника от меня не будет секретов. Он продолжал:
― Итак, я вам сказал, что служил в уездном городе; наша губерния была очень далека от центра. Я называю центром Москву, потому что, поймите правильно, никогда не признаю Санкт―Петербург столицей России. Нужно было раз в год приехать в губернскую канцелярию с подарками нескольким нашим начальникам, и тогда весь год мы жили спокойно; не было ни судебных разбирательств, ни наказаний; никто не совал нос в наши счета; во всем полагались на нас, и все было чудесно. «Сегодня народ меньше страдает», ― говорят нам прогрессисты. Еще одно новое слово, уважаемый месье, которое надо было выдумать, раз его не было в добром старом русском языке. «У служащих прибавилось совести», ― говорят они. Заблуждение; служащие стали изворотливей, вот и все; служащие были, есть и всегда останутся служащими. Мы, правда, берем из кармана крестьянина, но кто не грешен перед богом и не виноват перед царем? Прошу вас спросить об этом самого себя. Лучше ли ничем не заниматься и не воровать? Нет, деньги ― сердце любого дела. Прежде, подчиненные и начальники, мы жили как родные братья, и это вселяло в нас мужество. Например, если случалось однажды, что кто-нибудь проигрывал в карты две-три тысячи рублей, такое может случиться с каждым, так?
― Конечно, за исключением тех, кто не играет.
― А чего еще делать в дальней губернии? Нужно же хорошенько развеяться, кое-чем позабавиться. Эх, ладно; если случалось кому-то из нас проиграть две-три тысячи рублей, то, вы отлично понимаете, не с 350 рублей в год мы могли их отдать, не так ли?
― Это очевидно.
― Эх, ладно; шли к исправнику ― сам я тогда был не исправник, а просто stanovoi ― становой ― и говорили ему: «Вот что случилось, месье исправник; помогите, пожалуйста!» Исправник сердился или напускал на себя сердитый вид, и тогда мы ему говорили: «Вы прекрасно понимаете, что просим вас помочь не бесплатно, всякий труд должен быть оплачен, и вы получите 500 рублей». «Вы ― жулье, ― отвечал он. ― Не знаете, куда девать деньги, проводите жизнь в cabarets ― кабаках, чтобы пить и играть в карты как тунеядцы, кем и являетесь». «Мы не тунеядцы, ― возражали мы, ― и вот доказательство: если вы немедленно отдадите приказ собрать подать, мы отдадим вам 1000 рублей». «И вы думаете, ― сопротивлялся исправник, что за 1000 рублей я разрешу вам сейчас грабить бедных несчастных крестьян, у которых за душой нет ни копейки!» «Нет или есть, посмотрим, месье исправник, ― наседали мы. ― Ставим 15 сотен рублей и прекращаем этот разговор». Случалось, поднимали ставку до 2000 рублей. И нам, наконец, уступали; когда фигурировала сумма в 2000 рублей, отыскивалось средство уладить дело. Исправник отдавал приказ немедленно собрать подать; одно слово немедленно давало ему 4000 рублей.
― Как это?
― Извольте видеть. Мы приезжали в деревню, собирали крестьян, и один из нас говорил им: «Братья мои! Понимаете, в чем дело? Император, отец наш, нуждается в деньгах и просит собрать не только просроченный, но и новый налог; он говорит, что дал своим голубчикам долгий кредит, и для них настало время расплатиться». Начинались стенания и плачи, способные разжалобить камни, но, слава богу, нас этим не проймешь. Мы ходили по les isbas ― избам, определяли, что из немного в них годилось на продажу; затем уходили в кабак, предупреждая напоследок: «Поспешите, братцы; император теряет терпение!» Потом крестьяне шли к нам, просили дать им, чтобы собрать деньги: один ― две, другой ― три недели, а кто-то ― месяц. «Дорогие земляки, ― обращались мы к ним, ― прикиньте-ка, как нам отчитываться о сборе налога? Император нуждается в деньгах; мы перед ним в ответе, и вы же не хотите, чтобы из-за вас мы потеряли службу». Крестьяне кланялись нам до земли и уходили толковать между собой. Совещались час, иногда два часа, а вечером к нам приходил староста. Он приносил 15, 20, 25 kopeks ― копеек от каждого из крестьян. Деревня на 500 tieglos ― тягловых лошадей в среднем приносила 100 рублей серебром. Десять деревень давали 1500, 2000, 3000 рублей. Байи [исправник] получал свои 2000 рублей ассигнациями, и нам оставалось 2000 ― 2500 рублей серебром[131]. Расплачивались с долгом, а через месяц император, который ждал, может быть, год-два, получал плату, в свою очередь. Все зарабатывали на этом, государство и мы. А что такое 15, 20 копеек или чуть больше для крестьянина? Ничто!