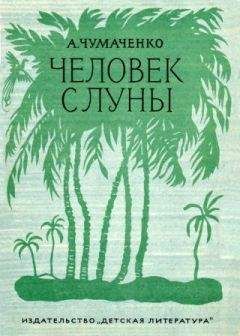В Горенду пришла девушка из Гумбу,
Она будет женой Мукаю.
Она будет делать ему браслеты,
Она будет варить ему пищу.
Завтра Мукай возьмет лук и стрелы,
Он убьет тиболя и кускуса,
Он наловит в корзину рыбы,
Он наберет полные руки кокосов.
Ешь, девушка! Ешь, девушка из Гумбу!
Ты родишь Мукаю здорового сына.
Жителям Горенду нужны новые люди,
Новые охотники и новые воины.
В Горенду пришла девушка из Гумбу,
Она будет женой Мукаю.
Она будет делать ему браслеты,
Она будет варить ему пищу.
Разожгли костер. Красный отсвет задрожал на высоких деревьях. Утомленные плясуны присели к огню. На смену им вышли новые.
Маклай чувствовал, что лихорадка опять овладевает им. Огонь не грел. Звуки флейт и дудок казались нестерпимо пронзительными. Лица танцоров, раскрашенные наполовину черной и наполовину красной краской, походили на видения страшного сна. Зубы застучали мелкой дрожью. По спине побежали холодные струйки озноба.
— Я пойду домой,— сказал Маклай и встал.
Встал и пошатнулся. Саул поддержал его,
— Останься здесь, в буамрамре,— сказал он Маклаю.— Мы положим тебе новую циновку. Зачем тебе идти сейчас домой? Разве тебе не все равно, где спать: здесь или дома?
«Буамрамра! Что ж, это, пожалуй, хорошо. Я лягу на циновку и буду глядеть сквозь крышу на небо. Меня никто не будет трогать, мне не нужно будет никого ни утешать, ни успокаивать. Ульсон, наверно, еще дуется, а если он одумается и захочет мириться,— значит, на всю ночь разговоров, упреков, жалоб!»
— Хорошо, Саул, я буду спать в буамрамре,— решает Маклай и идет, чуть пошатываясь, к большой хижине с резными украшениями у входа.
— Это болезнь? — спрашивают друг у друга папуасы, глядя вслед Маклаю.
— Нет, это кэу!— отвечают другие.— Маклай — человек с луны! Он не болеет, он не может болеть. Он просто выпил много кэу, чтобы Мукай и его жена были счастливы. Кэу связало ему ноги, и ему нужно отдохнуть.
— Пусть отдыхает! — решают хором папуасы.
И трубы начинают гудеть чуть-чуть тише, и танцоры танцуют чуть-чуть медленней.
В буамрамре темно. Сквозь растрепанную крышу светят звезды. Откуда-то пахнет цветами, ночными цветами Новой Гвинеи.
Но лихорадка сильнее всего. И Маклай слышит сам, как стучат его зубы.
Свадебный пир продолжался целую ночь. Люди успокоились только к утру. Только к утру заснул и Маклай. Свесив руку с помоста, он лежал на циновке, бледный, неподвижный, с каплями пота на лбу. Влажные от испарины волосы прилипли к вискам. Вокруг глаз легли тени. Тонкий нос казался еще тоньше. Из-под усов темнели потрескавшиеся от лихорадки губы. В буамрамре не было никого. Тонкий луч солнца, пробиваясь сквозь крышу, тянулся узенькой золотой дорожкой. Вырезанные на столбах ящерицы и рыбы скалили свои страшные пасти. Что-то шуршало в связках пальмовых листьев, брошенных на пустые нары. Может быть, это был ветер, пробравшийся сквозь открытую дверь; может быть, расхрабрившиеся мыши. Луч опустился ниже. Вот ой скользнул уже по бледной руке Маклая, по его впалой щеке, по темным векам. Маклай зашевелился. Глазам стало тепло от солнца. Маклай проснулся и приподнял голову. Он прислушивался; где-то далеко-далеко кричали звонкие голоса:
— Тамо-русс! Тамо-русс! Тамо-русс!
— Что за чертовщина! — пробормотал Маклай и с трудом спустил ноги с помоста.— Что это еще за «тамо-русс»? Тамо-русс — русские люди! Уж не начинает ли мне чудиться, как Ульсону? Этого только не хватало!
Но крики приближались. Кто-то бежал — и, очевидно, бежал с берега.
Легкие ноги протопали по твердой площадке. В хижинах со всех сторон зашевелились люди.
Кто-то что-то спросил. Кто-то что-то крикнул на бегу. Завизжали дети. Залаяли собаки. И вот уже чья-то тень закрыла входное отверстие буамрамры.
— Маклай! Маклай! Проснись! В море дым!
— Дым?
— Дым! Я был на берегу! Возле Кар-Кара прямо из воды выходит дым!
— Ты ошибся! Это просто люди Кар-Кара жгут унан. На воде не бывает дыма!
— Нет, это на воде! Я знаю, что это! Это твоя лодка. Это тамо-русс!
Тамо-русс! Русские люди! Бледные щеки Маклая побледнели еще больше. Казалось, вся кровь хлынула к сердцу, в груди сразу стало тесно, в ушах зашумело.
— Не может быть!
— Посмотри сам, Маклай! Посмотри и скажи нам! Если это не тамо-русс, значит, это горит море!
— Не кричите! Я посмотрю сам!
Пальцы путались в шнурках башмаков. Пуговица не хотела попадать в петлю. Кожаный пояс прятал свои дырочки и не лез в пряжку. Стиснув зубы, Маклай натягивал на себя платье, шнуровал кое-как башмаки, застегивал пояс. Наконец-то можно бежать… Бежать со всех ног, не разбирая дороги, прыгая через камни, перескакивая через поваленные деревья, прямо на берег, прямо к морю. Взобравшись на высокий камень, Маклай остановился и перевел дух. Дым! Да, в море действительно был дым. Конечно, это пароход. Его еще не видно: он далеко; но дым — это пароходный дым, и он приближается сюда!
— Маклай, что это такое? Это тамо-русс?
— Это большая лодка, Саул. Может быть, это и тамо-русс!
Маклай спрыгивает с камня и бежит по берегу к себе, к своей хижине на сваях.
Розовое от солнца море лежит почти неподвижно.
Еще прохладны под ногой камни и песок, остывшие за ночь. В крохотных заливчиках между скалами тихо булькает вода. На отмелях еще лежит лиловая тень, тень от нависших сверху камней, от свесившегося в пропасть дерева.
Но Маклай не смотрит сейчас ни на тени, ни на солнце. Он бежит, прихрамывая в своих стоптанных башмаках, бежит, не спуская глаз с белого неподвижного облачка.
— Дым! Дым!
— Ульсон, проснитесь! В море корабль!
С грохотом летит какой-то ящик. Звякает опрокинутый стакан. Опухший от сна Ульсон в одном белье выскакивает навстречу Маклаю:
— Корабль? Вы говорите — корабль? Это за нами?
— Не знаю. Может быть, и нет! Но мы все равно должны его встретить!
— Корабль!
Ульсон хохочет. Ульсон поет. Ульсон вдруг переворачивается вниз головой и лихо обходит на руках всю маленькую площадку перед хижиной.
— Ульсон, нельзя терять время. Мы должны поднять флаг, переодеться, взять письма и выехать в лодке навстречу судну.
— Навстречу судну! Судну!
Ульсон от радости не может говорить. Он делает пируэт, хлопает босыми пятками, щелкает пальцами, показывает язык морю и бежит одеваться.
Маклай поднимает флаг. Большое полотнище послушно скользит по веревке вверх. Легкий ветер разворачивает его. Оно бьется и пытается лететь, совсем как привязанная птица.