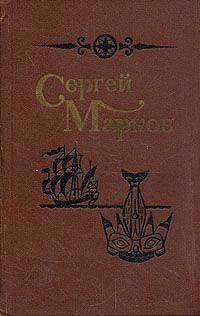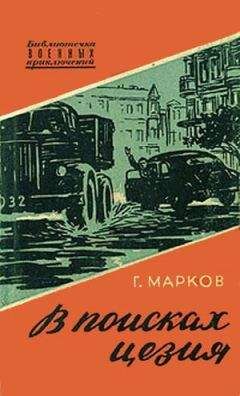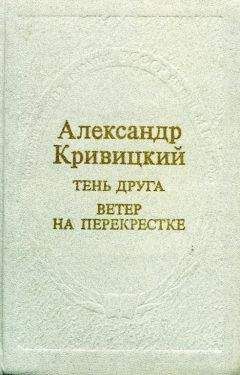— Мы не придем в Бобровый Дом, — сказал он твердо. — Нам надо спешить к Кускоквиму. Кузьма, готовь лодку, завтра мы поплывем. Спасибо тебе, сын Ворона, твоему роду, девушке Ке-ли-лын за все. Когда-нибудь я еще увижу всех вас.
Вода Квихпака колыхалась у их ног, когда они провожали молодого индейца. Тот, перед тем как сесть в лодку, выдернул из мочки синюю шерстяную нитку; он исполнил то, что было повелено ему. Солнечные лучи освещали реку.
Индейская лодка качалась на горбатых волнах, гребни волн были то золотые, то темные. Посланец из Бобрового Дома ловко работал двухлопастным веслом.
— Ну вот и все, — сказал Загоскин, когда индейский челнок исчез за поворотом реки.
— Слушай! — промолвил Кузьма, подняв палец. Звуки серебряных труб проносились высоко в небе: с юга летели лебеди.
— Мы живы, Белый Горностай, и слушаем лебедей… Помнишь, как мы с тобой погибали в метели? Можешь сердиться на меня — знаю, что ты не любишь этих речей, но, клянусь святым Николой, я не могу понять, что творится в Бобровом Доме. Когда Ке-ли-лын отняла власть у тойона, молодые индейцы стали свататься к ней, но она не смотрит ни на кого. Вот этот мальчик, добытчик трех медвежат, жаловался мне: он пробовал ее как-то обнять, но она ударила его тупым концом копья так, что он еле устоял на ногах…
Кузьма испытующе посмотрел на своего друга. Лицо русского было спокойно и щеки гладки, как камни. Шрам, полученный в деле при Куринской банке, белел пол глазом. И в серых глазах Загоскина индеец Кузьма не мог прочесть на этот раз ничего.
Старый индеец знал, что им придется проплывать мимо Бобрового Дома. Сверкающая вода Квихпака обнимала их лодку; индеец сидел на корме и то и дело вычерпывал воду берестяным ковшом; ноги путников промокли, и Кузьма даже начал кашлять. Чтобы прогнать кашель, он решил беспрерывно курить.
В эти дни Кузьма сделался задумчивым. На привале при свете костра он сосредоточенно разглядывал следы старых ран на груди и руках. Летопись простой и трудной жизни! Кузьма объяснял Загоскину значение этих знаков. Узловатый шрам у третьего ребра — память о том, как Кузьма еще подростком вздумал приручать молодого лося. Длинная борозда возле ключицы — след от копья эскимоса. На руке круглый белый знак, как бы разделенный внутри на лепестки, оставлен стрелой индейца с острова Ванкувер. Кузьма тогда выдернул наконечник каменной стрелы вместе с мясом, затем вложил мясо обратно в рану и затянул пораненное место тугой повязкой. Кожа приросла. Рана эта была получена, когда Кузьма ездил с отрядом русских промышленников в залив Св. Франциска.
Особенно любил он показывать рубец от медвежьего когтя на предплечье. В рубец можно было вложить палец.
— Смотри, сколько у меня рубцов, Белый Горностай, — с гордостью сказал Кузьма. — А у тебя только один. На бедре у меня есть еще знак — орлиная лапа; когда-нибудь я тебе его покажу. — Индеец опять запыхтел трубкой.
Ты лучше береги табак, Кузьма, — ответил Загоскин, — а то потом нам нечего будет курить.
— Сколько рубцов у меня, охотника и воина, а на сердце ни одного, — продолжал свой разговор старый индеец. — Не как у тебя, Белый Горностай, — добавил он с каким-то упорным озорством.
— Ты стал болтлив, как старая баба, — сухо сказал русский. — Лучше иди к лодке, вычерпай воду и зачини берестой щели. Иначе мы когда-нибудь пойдем ко дну. Понял?
— Иду, иду, — поспешно откликнулся Кузьма, взмахнув по привычке трубкой.
И они поплыли вверх по реке. Загоскин работал двухлопастным веслом, мокрая от пота рубаха облепляла его спину. Он давно сбросил лосиный плащ, и тот торчком возвышался на дне лодки.
Но вот вдалеке показался Бобровый Дом. Кузьма молчал и даже не глядел в сторону Загоскина. Ветер донес до них теплое дыхание очагов, запах жилья, звуки собачьего лая. Загоскин встал во весь рост в лодке.
Кузьма понял безмолвное приказание и взял весло.
— Греби вовсю, насколько хватит у тебя силы! — сказал Загоскин, опускаясь на лавку и направляя лодку прямо на середину реки. С возвышения на корме ему был хорошо виден берег, на котором стоял Бобровый Дом. Он вспомнил мерзлые ивы. Они сейчас влажно светились на солнце. И вдруг в его глаза ударил горячий и живой свет. Алый костер бушевал на отмели возле Бобрового Дома. Толпа индейцев с поднятыми копьями плясала возле пламени. Лодка качалась, и костер как бы метался между водою и небом, а поднятые копья летели к облакам.
Индейцы, заметив лодку, выхватили из костра пылающие ветви и застыли в торжественном молчании. И Загоскин увидел девушку-тойона Ке-ли-лын. Она в алом одеянии и кольчуге из мамонтовой кости стояла возле самого костра, и по ее лицу пробегали тени от дыма и свет пламени. И вновь сила, которая была крепче его сердца, неудержимо повлекла Загоскина на зов костра. Ему сначала казалось, что лодка погружается в грохочущий пенный водопад. Потом он перестал сознавать происходящее.
Кузьма яростно работал веслом. Загоскин дотронулся до плеча индейца и велел ему грести тише.
— Мы будем отдыхать в устье притока, — сказал он. Когда они отыскали там место для привала, Загоскин сделал засечки буссолью, определив местность, и улегся спать. Спал он долго — часть дня, вечер и всю ночь. Пробудился спокойным и веселым и долго слушал шум большой ели, ветви которой закрывали от него часть неба. Теперь он решил объяснить Кузьме все. Тот, узнав, о чем хочет говорить с ним русский, от удивления даже вынул костяную «колюжку» из губы. И действительно, Кузьма не верил своим ушам. Белый Горностай, смотря прямо в лицо индейцу спокойными серыми глазами, щурясь от табачного дыма, коротко и просто разъяснил ему всю загадку, так долго мучившую Кузьму.
— Ты старый охотник, и воин, и мой друг, Кузьма, — говорил русский, — думаешь обо мне, как о мальчике, и не можешь понять моих поступков. Мы шли и идем с тобой вместе, вместе делим хлеб и опасности. Более того, ты спас меня, Кузьма. Ты, кажется, научил меня не меняться в лице. Спасибо тебе за все. Много разных людей видел ты, и сам говорил мне, что похожих друг на друга душ нет на свете. Так знай, почему я не пошел к девушке Ке-ли-лын. Я не смог бы уйти от нее никогда: так говорит мне моя душа.
— Ну и жил бы в Бобровом Доме… и я с тобой — начальником воинов у Ке-ли-лын. Я знаю больше Одноглазого и мальчика, убившего всего трех медвежат… И все было бы хорошо!
— Ты забыл, кто я! Могу ли я, слуга главного русского тойона в Ситхе, уйти жить к немирным индейцам? Да нас с тобой обоих посадили бы тогда на железную веревку!