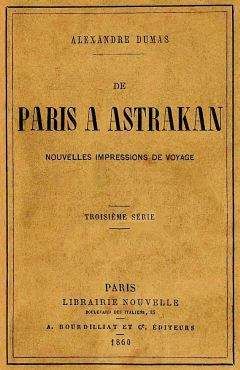При виде этой мерзкой механики, что имела отдаленное сходство с коровой Дедала[210] и быком Фалариса[211], Муане и Калино заявили, что расстояние ― всего три версты, и они пройдутся пешком.
Что касается Нарышкина, он смотрел на нас с балкона славянским оком с лукавым видом, желая нам удовольствий всякого рода.
― Признайтесь, ― говорю я Женни, помогая ей карабкаться в машину, ― что он получил бы поделом, если мы поймали бы его на слове.
На три версты по отвратительной дороге, посреди очаровательного пейзажа, ушло три четверти часа; получилось так, что мы нашли там Муане и Калино, которые пришли на 20 минут раньше.
Читатель знает уже мое мнение насчет достопримечательностей, которые приходят посмотреть, чтобы иметь право сказать: «Я их видел». Вифанский монастырь ― одна из таких достопримечательностей. В храме ― гроб, который св. Сергий променял на раку из золоченого серебра; могила митрополита Платона, его посмертный портрет, изображение временного алтаря на природе с деревьями, ручьями и лугами, где пасется разная живность, и картина святости, привезенная из Италии тем Суворовым, который представлен в лице Ахилла возле мраморного дворца в Санкт-Петербурге.
Церковь осмотрена, остается увидеть обиталище знаменитого метрополитена [митрополита, патриарха] Платона, которого современная Россия, как мне показалось, очень расположена поставить выше его тезки из древней Греции. Это, между прочим, совсем простой домик, с начертанным над дверью обращением ко всякому христианину:
«Кто бы ты ни был, входящий, Господь тебя благословляет!»
За исключением стипо[212], представленного Луи XVI-м и гардинами, вышитыми Екатериной II, обстановка в высшей степени простая. В спальне у кровати повешена на гвоздь соломенная шляпа достопочтенного метрополитена. С другой стороны, как парный предмет, ― рамка с французским четверостишием русского поэта; привожу его не как образец искусства, поймите правильно, а таким, какое оно есть[213]:
Слава нашей Церкви, разум редкий, честный человек,
Аарона[214] того же умел он воскресить манеру говорить,
И в искусстве касаться сердца здравым смыслом ―
Превзойти Августина[215], поколебать Хризостома[216].
Белазетский.
Если бы вы написали такое четверостишие, дорогой читатель, то не подписались, я ― тем более. Правда, если бы вас попросили исполнить его по-русски, как месье Белазетский сделал это по-французски, то вы были бы очень затруднены. Но у вас было бы преимущество перед ним в том, что вы не стали бы этого делать.
* * *
На следующий день Троица была осмотрена до дна, мы оставили Муане сделать наброски по своему выбору и уехали.
Две дороги ведут из Троицы в Елпатьево, если можно называть дорогами подобные пути.
Условились, для того, чтобы увидеть всеми нашими четырьмя глазами ― два глаза Калино были не в счет ― Муане поедет по той из двух дорог, которой мы пренебрежем. Муане со своей телегой обладал бесспорным правом проехать, где угодно. Ему досталась приозерная дорога.
Пусть от меня не ждут других справок об озере, кроме следующей. Оно производит точно таких же сельдей, как и океан. Я вырвал обещание у Муане их отведать, чтобы удостоверить факт. Что же касается Калино, то он, по праву малоросса, никогда не ел селедку, и я не мог здесь на него положиться.
Наша дорога слыла лучшей; это заставляло думать о той, которой следовал Муане. Впрочем, она предложила мне одну любопытную штуку тем, что была мне совершенно неизвестна: дорога в виде уложенных одно к другому и связанных между собой еловых бревен была проложена через зыбкое болото. Она имела 30 футов ширины. Проехав всю эту ходящую ходуном под копытами коней и колесами нашего экипажа подвижную дорогу длиной более версты, я искренне сожалел, что ее не увидел Муане; хотел бы, чтобы он зарисовал эту самобытность. По прибытии в Елпатьево я узнал, что мое желание исполнилось: первое, что мне показал Муане, был вид, мог бы поручиться, нашего болота и гати. Все просто, такое же болото и та же гать. Нарышкин уверял нас, что в России немало таких болот и таких гатей, и что мы очень похожи на детей, которые набивают карманы галькой, когда впервые выходят на берег моря.
Дидье Деланж предупредил, что нам предстоит въехать на некую песчаную гору, где забыли уложить еловую гать, что ситуация, возможно, будет трудной. Поминутно мы спрашивали Деланжа:
― Мы уже на песчаной горе?
― Нет, ― отвечал нам Деланж. ― Когда будете там, отлично это увидите.
На второй станции запрягли в экипаж восемь лошадей вместо четырех, а мы сомневались, что приблизились к malo sitio ― плохому месту, как говорят в Испании. Восьмерка коней сразу понесла как ветер; у нас был вид его величества императора всея Руси. Через полчаса этого великолепного бега увидели узкий желтый надрез на холме, ведущий вверх.
― Это и есть та крутая тропа, что вы называете горой песка, Деланж? ― спросил я.
― Она самая.
― Хорошо! Я ожидал увидеть нечто вроде Монмартра или Чимборасо[217]. И ради этого взрытого кротом бугорка вы велели запрячь в экипаж восемь лошадей?
― Ради него; и бог знает, не понадобиться ли еще восемь других!
Я не видел еще на Сураме 62 быков с экипажем английского посла в Персии, так что находил, что 16 лошадей было бы большой роскошью для четырех персон.
― Ба! ― сказал я Деланжу, ― будем надеяться, что обойдемся там тягой 12-ти.
― Pachol, pachol! ― Пошел, пошел! ― крикнул Нарышкин ямщику.
Ямщик хлестнул лошадей, которые удвоили скорость и довольно лихо взлетели на склон холма; но вскоре их бег замедлился; с галопа перешли на рысь, с рыси ― на шаг, и, наконец, они остановились.
― Довольно? ― спросил я.
― Довольно, приехали, ― ответил Деланж.
Я высунулся из экипажа; в песке лошади увязли по брюхо, экипаж ― по кузов.
― Дьявол, ― выругался я. ― Думаю, нужно срочно облегчить экипаж. И открыл дверцу, и спрыгнул на землю. Едва коснулся песка, как вскрикнул.
― Что такое? ― спросила Женни, совсем испуганная.
― А то, ― ответил я, хватаясь за подножку, ― что сейчас исчезну в зыбучих песках, как Эдгар Равенсвудский[218] ― ни больше ни меньше, если вы не подадите мне руку.
Вместо одной, три руки протянулись ко мне; я вцепился в самую сильную из них и достиг цели, выбрался на подножку.