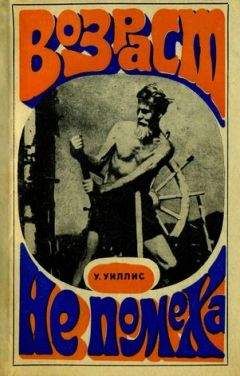— А ты, прежде чем ложиться, прибей свои сапоги к переборке, — посоветовал мне один матрос. — Ляжешь, всунешь в них ноги, и уж тогда никуда не вывалишься.
— А если будут свистать всех наверх? — спросил я робко.
— Ну, скажешь боцману, чтобы он немного подождал.
Только тогда я понял, что он шутит. Попробовал бы я через десять секунд после свистка не выскочить на палубу! Боцман с концом или со шкворнем в руке влетел бы в помещение для команды и выволок бы меня наверх за голову или за ногу!
Запись в вахтенном журнале 16 июля 1963 года
7°10' южной широты
84°38' западной долготы
220 миль от Пунта-Агуа
Сегодня днем выглянуло солнце. Гуаякиль исключается — ветер, высокие волны и течение Гумбольдта отнесли меня на север. Если так и дальше пойдет, я, скорее всего, окажусь у Галапагосского архипелага и северные течения погонят меня между его островами, на север от экватора, в мертвые воды, откуда мне не удастся выскочить. Остается только взять прежний курс, следить за рулями и, может быть, как-нибудь их починить. После того как я миную Галапагосы, до Маркизских островов останется три тысячи миль, и если положение станет совсем отчаянным, придется высадиться на Маркизах.
Произошло еще одно несчастье: перестала работать рация. Правда, я не возлагал на нее слишком больших надежд — мне с самого начала казалось, что ее в Кальяо не очень хорошо отрегулировали. В Нью-Джерси радисты фирмы "Маркони" настроили ее великолепно, но даже при идеальных условиях радиус ее действия не превышал пятисот миль, поэтому Тэдди не ждала от меня сообщений. Я сидел на корме у штурвала и слушал, как море бьется о плот. Полночь давно миновала. Штурвал резко вздрагивал при каждом ударе волн о рули. Рано или поздно они сломаются. Я смотрел в темноту, на черное небо и почти угольно-черное море, и вспоминал, как почти десять лет назад этим же курсом шли "Семь сестричек". Вспоминал, как, раздираемый невыносимой болью в низу живота, я лежал на палубе, как, оставшись почти без воды, умолял безоблачное небо послать дождь, как держал над головой раненую руку, чтобы остановить кровотечение, и в конце концов сам зашил поврежденную артерию. Все это я перенес и, плывя один, пережил одни из самых счастливых часов в моей жизни. Так будет и сейчас, что бы ни случилось. Как рули — не знаю, но я-то выдержу, в этом я не сомневался.
Того, кто хоть раз отправлялся один в плавание по морю, всегда будет одолевать желание еще раз испытать это чувство умиротворения. Но одного желания мало. Это состояние покоя надо выстрадать, каждый день, каждую минуту преодолевая тоску по себе подобным, и прежде всего по близким — отцу, матери, жене, ребенку... Узы крови связывают человека во времени и пространстве, разрывая их, он испытывает мучительную боль и чувствует себя совершенно беззащитным. В конце концов, если у него сильная воля, он проникнется торжественностью молчания и взглянет на себя со стороны. Если он при этом испугается своего ничтожества, он станет звать на помощь и будет кричать, пока не сойдет с ума. Значит, испытание оказалось ему не под силу.
Море по-прежнему было бурным, вода проходила сквозь бамбуковый настил, как сквозь сито. Вокруг летали птицы, несомненно гнездившиеся на Галапагосских островах. Они то скользили бесшумно над морем, то вдруг замирали и стрелой кидались вниз. Иногда они галдящей трепыхающейся стаей накидывались на что-то — с плота мне не было видно, на что, — может быть, на косяк анчоусов. Одни парили над волнами, подымаясь и опускаясь в такт с ними, припадали ко впадинам между гребнями и в самый последний миг взмывали вверх, спасаясь от наступающего вала. Другие метались в каком-то ликовании, словно охваченные экстазом при виде бушующего моря. Среди пернатых было много фрегатов, больших черных птиц с непомерно длинными узкими крыльями саблеобразной формы, делавшими их похожими на летящих пауков. Высмотрев добычу, они взмывали вверх и парили там, напоминая пришпиленные к небу кресты, а потом, улучив момент, кидались на свою жертву.
Я много думал о Тэдди. Как-то она там, в Нью-Йорке? Живет, как обычно, а мыслями, наверное, здесь, со мной, в Тихом океане. К счастью, она очень трезвый человек, не склонный волноваться из-за пустяков, в приметы она не верит и, конечно, уже и не вспоминает о землетрясении. Надо мне сосредоточиться, чтобы, как я обещал, войти в контакт с ней, но волнение на море не прекращается ни днем, ни ночью, и под порывами ветра, когда море непрестанно грохочет о плот, трудно собраться с мыслями. Для этого нужна тихая ночь с ясным небом, безмолвная ночь, как выражаются поэты. Я был уверен, что, проявив настойчивость, каким-то образом почувствую ее близость, хотя это, конечно, ничего не докажет.
Стало тепло. Я разделся, вылил на голову ведро морской поды и помылся жесткой щеткой, которую Тэдди купила для того, чтобы скрести пол в каюте. Потом я вытянулся на палубе и подставил лучам солнца свое изголодавшееся по теплу тело. Но не тут-то было! Холодное течение Гумбольдта принесло из Антарктики с тонну ледяной воды, она перехлестнула через борт плота, подняла меня как ребенка и весьма бесцеремонно отшвырнула к стенке каюты.
На ужин я приготовил суп из овощей. Мелко-мелко порубил, чтобы они быстрее сварились, капусту, картошку, лук, морковь, положил несколько долек чесноку и немного тмину, не пожалел и красного стручкового перца. Добавить бы туда косточку от окорока — и получилось бы прямо-таки царское блюдо, но, рассчитывая на рыбу, я не взял с собой мясных консервов.
Значительная часть овощей уже испортилась, но лук и картошка еще были в хорошем состоянии. Особые надежды я возлагал на картошку — она и консервированный лимонный сок были главными моими противоцинготными средствами. Кроме того, я взял десять дюжин свежих лимонов, уложенных по перуанскому способу в опилки — так они могут лежать около месяца, и две кварты лимонного сока домашнего приготовления.
Вид коробок с провизией, нагроможденных в каюте, всякий раз напоминал мне о путешествии 1954 года. Я тогда питался в основном болтанкой из ржаной муки, которую употребляют в пищу индейцы в Андах. Впоследствии я узнал, что эту же муку и также в сыром виде едят тибетские монахи и носильщики в Гималаях. Кроме муки, у меня была с собой шанкака — так индейцы Перу и Эквадора называют липкое вещество из сахара-сырца, содержащее естественную патоку. Этот скудный рацион дополнялся рыбой, но, к сожалению, последние три тысячи миль мне редко удавалось ее поймать.