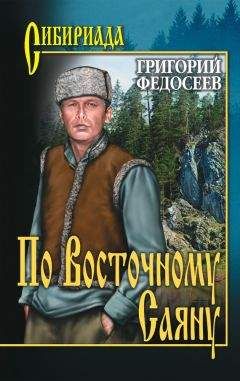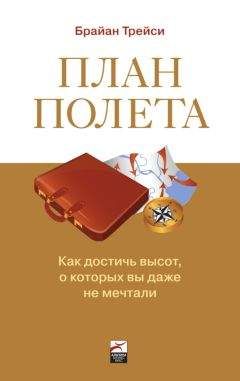А итти все труднее, стужа сковывает челюсти, запаивает ноздри.
Мы передвигаемся молча. Заледеневшие ресницы мешают смотреть. Вначале я оттирал щеки рукавицей, но теперь лицо уже не стало ощущать холода. Гаснет свет, скоро ночь, сопротивляться буре нет сил. Все меньше остается надежды выбраться из этого стланика. Решаем свернуть вправо и косогором пробираться к скалам. Снег там должен быть тверже. Попрежнему через двадцать-тридцать метров олени и нарты проваливаются. Мы купаемся в снегу. Я чувствую, как тает за воротником снег, и вода, просачиваясь, медленно расползается по телу, отбирая остатки драгоценного тепла. Хочу затянуть потуже шарф на шее, но пальцы одеревенели, не шевелятся. Почему-то прекратились боли в ногах, будто ступни примерзли к стелькам унтов, а кровь отступает в глубину тела. Трясет как в лихорадке. Иду еще медленнее. Пурга, кажется, уже готовится совершить свое страшное дело.
– Остановитесь, отстал Геннадий, – кричит где-то позади Василий Николаевич.
Остановились. Мокрая от пота одежда заледенела коробом и уже не предохраняет от холода. Хочется привалиться к сугробу, но внутренний голос предупреждает: это смерть!
– У-люю… у-люю… – хрипло кричит Мищенко, и из мутных сумерек показывается Геннадий. Он шатается, с трудом передвигает ноги, ветер силится свалить его в снег. Мы бросаемся к нему, тормошим, трясем и сами немного отогреваемся.
– Надо петь, бегать, немного играть, мороз будет пугаться, – советует Афанасий, кутаясь в старенькую дошку и выбивая челюстями мелкую дробь.
Наконец-то нам удается выбраться к скалам. Тут действительно снег тверже и итти легче. Мы немного повеселели. Все кричим какими-то дикими голосами, пытаемся подпрыгивать, но ноги не сгибаются в суставах, и мы беспомощны, как тюлени на суше. К ночи пурга усилилась, стало еще холоднее. Мы уже не можем отогреваться движениями. Мысли становятся неясными. Тело прошивает колючая стужа. А тут, как на беду, сломались обе нарты. Мы едва дотащили их до поляны.
Густая тьма сковала ущелье. Уныло шумит тайга, исхлестанная ветром. Мы в таком состоянии, что дальше не в силах продолжать борьбу. Только огонь вернет нам жизнь. Но как его добыть, если пальцы окончательно застыли, не шевелятся и не держат спичку? Все молчат, и от этого становится невыносимо тяжело.
Афанасий стиснутыми ладонями достает из-за пояса нож, пытается перерезать им упряжные ремни, чтобы отпустить оленей, но ремни закостенели, нож падает на снег. Я с трудом запускаю руку в карман, пытаясь омертвевшими пальцами захватить спичечную коробку, и не могу. Неужели конец? Нет, подожди, смерть! Не все кончено!
Василий Николаевич ногой очищает от снега сушняк, приготовленный вчера проводниками для костра, и ложится вплотную к нему. Мы заслоняем его от ветра. Он, зажимая между рукавицами спичечную коробку, выталкивает языком спички, а сам дрожит. Затем подбирает губами с земли спичку и, держа ее зубами, чиркает головкой по черной грани коробки. Вспыхивает огонь. Василий Николаевич сует его под бересту, но предательский ветер гасит огонь. Снова вспыхивает спичка, вторая, третья… и все безуспешно.
– Проклятье! – цедит Мищенко сквозь обожженные губы и выпускает из рук спичечную коробку.
Первым сдается Николай. Подойдя к нартам, он пытается, видимо, достать постель, но не может развязать веревку, топчется на месте, шепчет, как помешанный, невнятные слова и медленно опускается на снег. Его тело сжимается в комочек, руки по локоть прячутся между скрюченными ногами, голова уходит глубоко в дошку. Он ворочается, как бы стараясь поудобнее устроить свое последнее ложе. Ветер бросает на него хлопья холодного снега, сглаживает рубцы одежды. Еще минута – и его прикроет сугроб.
– Встань, Николай, пропадешь! – кричит властным голосом Геннадий, пытаясь поднять его.
Мы бросаемся на помощь, но Николай отказывается встать. Его ноги беспомощны, как корни сгнившего дерева. Руки ослабли, по открытому и обмороженному лицу хлещет ветер.
– Пустите… мне холодно… бу-ми [6]… – шепчет он.
Силы покидают и нас, но мы пытаемся усадить его на нарты.
Афанасий, с трудом удерживая закоченевшими руками топор, подходит к упряжному оленю. Пинком ноги он заставляет животное повернуть к нему голову. Удар обуха приходится по затылку. Олень падает. Эвенк носком топора вспарывает ему живот и, припав к окровавленной туше, запускает замерзшие руки глубоко в брюшную полость. Лицо Афанасия вскоре оживает, теплеют глаза, обветренные губы шевелятся.
– Хо… Хорошо, идите, грейте руки, потом огонь сделаем, – кричит эвенк, прижимаясь лицом к упругой шерсти животного.
А пурга не унимается. Частые раскаты обвалов потрясают стены ущелья. Афанасию удается зажечь спичку. Вспыхивает береста, и огонь длинным языком скользит по сушняку. Вздрогнула сгустившаяся над нами темнота. Задрожали отброшенные светом тени деревьев. Огонь, разгораясь, с треском обнимает горячим пламенем дрова…
Какое счастье огонь! Только не торопись! Берегись его прикосновения, если тело замерзло и кровь плохо пульсирует. Огонь жестоко наказывает тех, кто не умеет пользоваться им. Мы это знаем и не решаемся протянуть к нему скованные стужей руки, держимся поодаль. В такие минуты достаточно глотнуть теплого воздуха, чтобы к человеку вернулась способность сопротивляться. К костру на четвереньках подползает Николай и бессознательно лезет в огонь. Его вдруг взмокшие скулы зарумянились, зашевелились собранные в кулаки пальцы.
Василий Николаевич и Геннадий стаскивают с Николая унты, растирают снегом ноги, руки, лицо. Потом поднимают его и заставляют бегать вокруг костра. Афанасий ревет зверем, у него зашлись пальцы.
А костер, взбудораженный ветром, хлещет пламенем по темноте.
Только через час нам удается организовать привал: поставить палатку, наколоть дров, затопить печь. Собаки Бойка и Кучум, хотя и привыкли к холоду, на этот раз не выдержали и попросились на ночь к нам. Мы долго не можем прийти в себя. Острой болью стучит пульс в ознобленных местах, кисти рук пухнут, болит спина. Тепло все еще вызывает страшную боль. Лицо, руки у всех обморожены. У Николая на ступнях вздулись белые пузыри. Сон наваливается непосильной тяжестью. Ложимся без ужина. В последние минуты я думаю о Трофиме и его товарищах. Трудно поверить, что, заблудившись в этих горах, да еще без палатки, можно было спастись от такой беспощадной стужи. Неужели непогода надолго задержит нас под перевалом?
В пургу спишь чутко. Тело отдыхает, а слух сторожит, глаза закрыты, но будто видят. Тихо зевнул Кучум, и я проснулся, расшевелил в печке угли, подбросил щепок, дров. Мутным рассветом заползает к нам утро. В горах бушует ветер, трещит, горбатясь, лес, с настывших скал осыпаются камни.