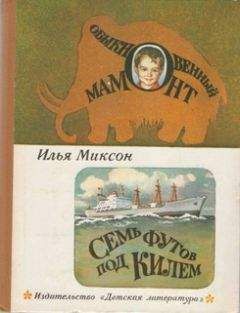– А вот этого никто не знает, какая судьба выпадет.
– И хорошо, что не знает, упаси бог – знать свое будущее!
– А чего бояться? – беспечно возразила она. – Хуже смерти ничего не будет. Каждый день жизни, Паша, это человеку подарок, а кто того не понимает, пусть себе трясется, как бы чего не случилось. От таких думок цвет лица портится, а это единственное, что у меня осталось.
– Вы умная и красивая женщина, Люба, – с чувством сказал я. – У вас глаза хороши, и руки, и фигура совсем девичья.
– Ой, только не влюбитесь. – У нее в улыбке задрожал подбородок. – Своих девчонок, Раису и Зину, я учу, чтоб ни одному мужику, хоть самому распрекрасному, в море не верили. Вот когда в порту за тобой бегать будет и с ума по тебе сходить, тогда прислушайся, а в море – ни-ни, пусть в ногах валяется и криком кричит, ни-ни! Это, говорю я девочкам, не душа в нем кричит, а зверь. Какая ему вера?
– Справедливо, – согласился я. – И слушаются?
– Какое там! Необожженные они еще, зеленые. По Райке четвертый помощник сохнет, уже расписаться договорились, а ей теперь новенький этот, красавчик, да вы знаете, Федя, голову кружит, да и сам Корсаков не брезгует ручку повыше локтя чмокнуть. А Зинка и вовсе дура, ошалела от жадных глаз. Это для меня урок пройденный, а они, считай, в первый класс пошли… Можете закурить, если желаете, и меня угостите, я тоже иногда балуюсь.
Мы закурили.
– И для меня тоже пройденный, – неожиданно для самого себя сказал я. Обычно на эту тему я ни с кем стараюсь не говорить.
– Я только вчера узнала, что Инна Крюкова ваша жена.
– Бывшая, – поправил я.
– Красивая… У нас все девки ей завидуют, мужики, чтоб поглазеть, у телевизоров торчат. Вот узнали бы, что ее муж здесь сидит!
– Бывший, – терпеливо поправил я, и мы невольно заулыбались. – Еще по одной, Люба?
– А за что будем пить?
– Чтоб прошлое нас не тревожило, ни вас, ни меня.
– А зачем тогда жить? – просто, но со скрытой горечью спросила она. – Позади – годы, впереди – денечки. Вы-то любите еще?
– Отвык.
– И я отвыкла. – Она подошла к стене, сняла фотографию, положила на стол. – Я правду говорю – отвыкла. Вы и в самом деле не знали? Удивительно, что вам не насплетничали, нам уже пятнадцать лет косточки перемывают, а был Алеша мой жених, только и всего. И не он от меня, а я от него ушла!.. – И с гордостью добавила: – От меня еще никто не уходил, сама бросала.
Она повела плечами, серьги звякнули, а раскосые черные глаза вдруг стали жесткими. «Да, от тебя по своей воле, не очень-то уйдешь», – подумал я.
– Дура я тогда была, молодая, – продолжала Любовь Григорьевна. – Он мне в море предложение сделал, когда любая замухрышка кажется мужику королевой. Слова красивые говорил, а он ведь умный, кого хошь заговорит, вот я и развесила уши, поверила. И только на берег сошли и заявление подали, он из-за Марии голову потерял, да и не он один, за ней целое стадо бегало. Другая б скандалила и письма писала, а я сама, – она улыбнулась, вздохнула, – балованная была, забрала из ЗАГСа заявление, разорвала и ему послала – мой свадебный тебе подарок. Ох, и извелся Алеша, то меня порывался вернуть, то Марию караулил, как школьник. Как узнал, что она Чупикова выбрала, пошел в рейс, напился и посадил пароход на камни, год на буксире без диплома палубу драил. А Мария, что за самого молодого капитана не хотела идти, прибежала на буксир к матросу – к несчастненькому, из-за нее пострадавшему. С той поры я ее и зауважала… Вот вы смотрите на меня, глаза добрые, жалеете небось, а вы не жалейте, все получилось так, как надо: не пара я ему. Он не очень-то добренький, и я не сахар, он говорит – белое, я – черное, он – слово, я – два, не сегодня, так завтра бы ушел, мы с ним – случайные… Ой, забыла!
Она побежала на кухню и вернулась с противнем.
– Успела, – весело сообщила она. – На камбуз я никого не пускаю, там разболтаешься – двадцать мужиков без обеда оставишь, а голодные они злые, волками смотрят. Кушайте, Паша, зелень берите, еще летом заготовила, а рыбка свежая, Птаха утром наловил. Вот кому повезло, так это его учителке, он ведь тоже непьющий, таких у нас по пальцам считают. Алеша – тот большой любитель был, да Мария с него зарок взяла – ни капли. Всякий Алеша бывает: и хороший и плохой, а уж если сказал слово – как ножом отрезал. Пятнадцать лет с ним плаваю, а ни разу не видела, одну воду шьет да квас.
– Пятнадцать лет? – пробормотал я.
– Ну, как они поженились, я, конечно, ушла, а через год вернулась, когда с Колей, его боцманом, расписались. Мужик был стоящий, если трезвый – никого другого не надо, только водка его погубила, двух лет не прожили, дала ему отставку. И второму на дверь указала – за такое же дело. И хватит с меня, больше я с вашим братом всерьез не играю, мне и одной хорошо, сама себе хозяйка, и пьяных рыл не вижу, и чужие порты не стираю. Захотела шубку – присмотрела и купила, пришла блажь Москву посмотреть – села и поехала, встретила умного человека – в гости пригласила, и ни перед кем мне отчитываться не надо. Ох и разболталась я, Паша, хороша хозяйка, ничего не едите! Еще маленькую для аппетита?
– За вас, Люба, и за вашу удачу.
– Хорошо, спасибо.
– Если б это не звучало глупо после водки, я бы сказал, что очень вас уважаю.
– А вы говорите, – она засмеялась, – мы, бабы, любим комплименты, можете еще про руки-глаза повторить, если хотите. А правда, я еще ничего? Я ведь за собой слежу, мне еще до пенсии… а вот это уже необязательно, да?.. И это необязательно… – Она легонько отвела мою руку. – Уж вы-то не похожи на Федю, которому все равно кто, лишь бы юбка была… А Жирафик у вас забавный, – она улыбнулась, – как я его пожалею, сразу краснеет и начинает про свою жену рассказывать, какая она у него заботливая и славная. Пейте компот, домашний. Не обиделись на меня, Паша?
– Ничуть, – со вздохом сказал я. – Хотя, признаюсь, меня больше бы устроил другой десерт. Мы рассмеялись.
– Не все сразу, – лукаво сказала она, – этак вы и всякое уважение ко мне потеряете. У нас рано темнеет, Паша, не заблудитесь?
Я сердечно поблагодарил за гостеприимство и стал прощаться.
– Выдам вам секрет, Паша, – уже в коридоре сказала она. – Жалеет Архипыч, что взял вас, не любит он, когда выносят сор из избы.
Темнело, тротуар был скользкий, и я шел осторожно. Из-за угла показалась знакомая долговязая фигура, я отпрянул в сторону.
– Будьте любезны, – послышался голос Баландина, – здесь нет таблички, это дом номер З? Прохожий подтвердил, и Баландин, потоптавшись, двинулся к подъезду, из которого я только что вышел.
Эх ты, Жирафик!
Баландин явился в пять утра, сразу улегся спать, и к завтраку я его не будил. Увидев меня в кают-компании, Чернышев чуть усмехнулся, но ничего не сказал. Я даже был разочарован – так мне хотелось насладиться его растерянностью: на сей случай я заготовил парочку язвительных, в его стиле, экспромтов. Но ему было не до меня, так как он затеял с Корсаковым длинный квалифицированный разговор о бункеровке, балласте, пресной воде и прочем, из которого я понял, что ради остойчивости продолжать эксперимент следует с полными топливными и водяными танками, а в случае необходимости заполнять их забортной водой. Вообще, когда речь заходила об остойчивости, Чернышев слушал очень внимательно, не скрывая, что в теории этого предмета познания Корсакова несравненно превосходят его собственные. Говорили они деловито и вполне миролюбиво, и мы старались им не мешать.