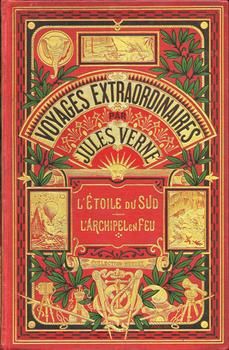Теперь каждый вечер им приходилось ставить лагерь и разжигать большие костры, вокруг которых люди и животные устраивались спать, с непременной охраной ближайших окрестностей.
Окружающий пейзаж принимал все более дикий вид. Зеленые долины Банкен-Вельда сменились равнинами желтоватого песка, зарослями колючего кустарника и попадавшимися время от времени ручьями в болотистых берегах. Иногда караван даже делал крюк, чтобы объехать целый лес колючих деревьев. Это небольшие, от трех до пяти метров высотой деревца с бесчисленными, почти горизонтально растущими ветвями, которые усажены шипами от двух до четырех дюймов длиной, твердыми и острыми как кинжал. Этот край Буш-Вельда, более всего известный под именем Лион-Вельд, или Львиный лес,— вроде бы не очень оправдывал свое грозное название, ибо за три дня путешествия никто не заметил никаких признаков обитания хищников. «Это, скорее всего, просто традиционное название,— убеждал себя Сиприен,— львы, надо думать, давно отступили в глубь пустыни!» Когда он высказал свое мнение Джеймсу Хилтону, тот расхохотался.
— Вы полагаете, львов здесь нет? — спросил он.— Просто вы не умеете их видеть!
— Как это возможно? Не увидеть льва посреди голой равнины! — иронически заметил Сиприен.
— Ну что ж, готов биться об заклад на десять фунтов,— заявил Джеймс Хилтон,— что не пройдет и часу, как я покажу вам льва, которого вы, как окажется, не заметили!
— Я из принципа никогда не бьюсь об заклад,— ответил Сиприен,— но ради, эксперимента готов и на это.
Они прошагали двадцать пять или тридцать минут, все уже и думать забыли про львов, как вдруг Джеймс Хилтон закричал:
— Господа, взгляните на муравейник, который торчит вон там, справа!
— Подумаешь, невидаль! — ответил ему Фридель.— Вот уже дня три, как мы только их и видим!
И верно, в Буш-Вельде ничто не встречается так часто, как огромные кучи желтой земли, вздыбленной бесчисленными муравьями, и лишь эти кучи, перемежаясь с кустарниками или купами тощей мимозы, нарушают иногда однообразие бесконечной равнины.
Джеймс Хилтон молча усмехнулся.
— Месье Мэрэ,— сказал он,— если вам угодно перейти на галоп, чтобы приблизиться к этому муравьиному гнезду,— вон там, куда указывает мой палец,— то обещаю вам — вы увидите то, что хотели увидеть! Только держитесь не слишком близко, иначе возможны большие неприятности!
Сиприен пришпорил коня и устремился к тому месту, которое Джеймс Хилтон назвал муравейником.
— Там расположилось целое семейство львов! — добавил немец, когда Сиприен ускакал.— Ставлю один против двух, что эти желтоватые кучи, которые вы принимаете за муравьиные гнезда, не что иное как львы!
— Per bacco![84] — вскричал Панталаччи.— Кто вас тянул за язык советовать ему не слишком приближаться!
Но, спохватившись, что его слышат Бардик и Ли, он продолжил совсем в ином тоне:
— То-то Frenchman перепугался бы!
Неаполитанец ошибался. Сиприен был не из тех, кого легко напугать. За двести шагов до указанной цели он понял, с каким грозным муравейником имеет дело. Это был огромный лев, львица и три львенка, сидевшие кружком, словно кошки, и мирно дремавшие на солнышке.
При звуке копыт Темплара лев приоткрыл глаза, поднял свою большую голову и зевнул, показав меж двух рядов страшных зубов пропасть, в которую мог провалиться десятилетний ребенок. Потом взглянул на всадника, остановившегося от него в двадцати шагах…
К счастью, свирепое животное не испытывало голода, иначе не осталось бы столь равнодушным.
Сиприен, держа руку на карабине, две или три минуты ждал волеизъявлений его высочества льва. Но, видя, что высочество не настроено предпринимать враждебные действия, он не захотел нарушать счастливый покой почтенного семейства и, повернув коня, иноходью вернулся к своим спутникам. Вынужденные признать его хладнокровие и отвагу, те встретили его аплодисментами.
— Я, пожалуй, проиграл пари, месье Хилтон,— только и сказал Сиприен.
В тот же вечер путешественники добрались до правого берега Лимпопо, где и сделали остановку. Здесь Фридель хотел во что бы то ни стало наловить рыбы для поджарки — невзирая на предупреждения Джеймса Хилтона.
— Это очень вредно для здоровья, дружище! — убеждал его Хилтон.— Знайте, что в Буш-Вельде после захода солнца нельзя ни оставаться на берегах рек, ни…
— Хо-хо! Со мной и не такое случалось! — отвечал немец со свойственным его нации упрямством.
— Подумаешь! — воскликнул Аннибал Панталаччи.— Что тут плохого — побыть часок-другой на берегу реки? Мне ли не доводилось часами мокнуть, стоя по грудь в воде, когда я охотился на уток?
— Это не совсем одно и то же! — настаивал Джеймс Хилтон, по-прежнему обращаясь к Фриделю.
— Чепуха все это!…— отвечал неаполитанец.— Дорогой Хилтон, было бы гораздо лучше, если бы вы поискали мне для макарон банку с тертым сыром, чем не пускать нашего друга натаскать для нас рыбки на рыбное блюдо! Это внесет в наш стол хоть какое-то разнообразие!
Фридель ушел, ничего больше не желая слушать, и так долго закидывал удочку, что вернулся в лагерь далеко за полночь. Упрямый рыболов с аппетитом пообедал, оказав вместе со всеми прочими честь наловленной рыбке, но в фургоне, уже улегшись спать, пожаловался своим сотоварищам на сильный озноб.
На следующий день рано утром, когда все встали, чтобы готовиться к отъезду, у Фриделя обнаружилась горячка, и он был не в состоянии ехать верхом. Все же он попросил продолжать путь, утверждая, что на соломе внутри повозки ему будет лучше. Его просьбу выполнили.
В полдень у него начался бред. В три часа он был мертв. Его болезнь оказалась скоротечной злокачественной лихорадкой.
Перед лицом этой внезапной смерти Сиприен не мог отделаться от мысли, что самая тяжкая ответственность за случившееся ложится на Аннибала Панталаччи с его вредными советами. Однако, кроме него, никто и не думал, по-видимому, сделать такое заключение.
— Видите, как я был прав, говоря, что с наступлением ночи не следует шататься по берегу реки! — ограничился философским замечанием Джеймс Хилтон.
Путешественники сделали кратковременную остановку и зарыли труп, чтобы не оставлять его на милость хищников.
Это были похороны соперника, почти врага, и все же, отдавая ему последний долг, Сиприен ощутил глубокое волнение. Дело в том, что зрелище смерти, всегда строгое и торжественное, здесь словно бы заимствовало у пустыни новое величие. Лишь перед лицом природы человек начинает понимать, что это и есть неизбежный конец. Вдали от семьи, от всех, кого он любит, он говорит себе, что, быть может, завтра и сам упадет среди бескрайней равнины, чтобы никогда больше не подняться, и вот так же будет зарыт в песок на глубину одного фута и придавлен голым камнем и что на проводах его в последний час не будет ни сестриных, ни материнских слез, ни дружеской скорби. И тогда, перенося на собственную личность частицу жалости, навеянную судьбой товарища, он представит себе, что есть частица и его самого в том, что упрятал он в одинокую могилу!