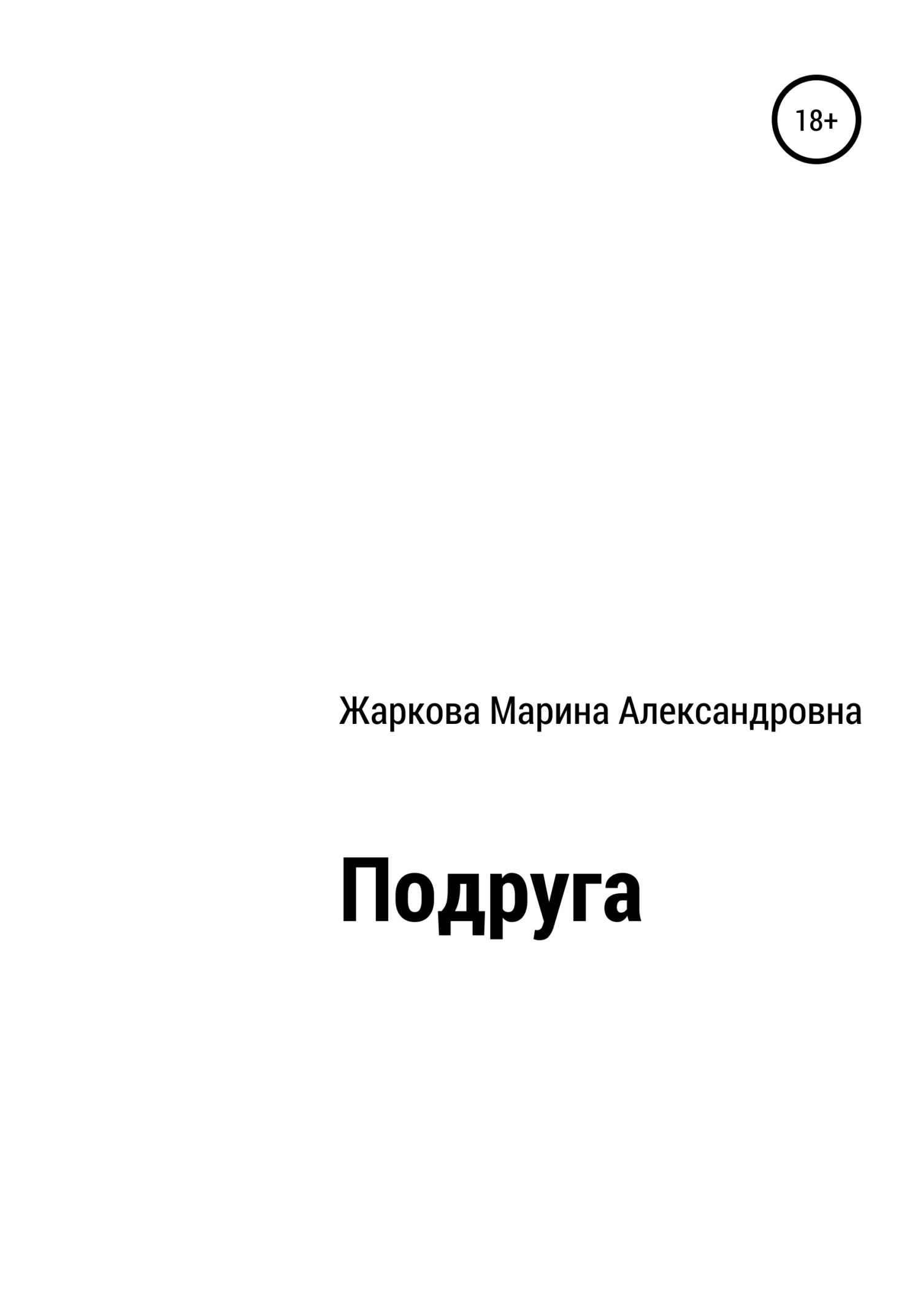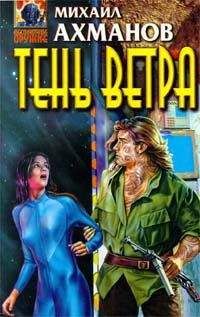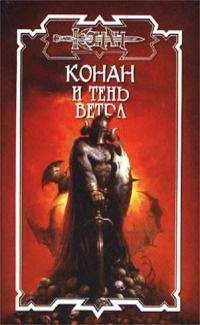в мелкие ленивые волны – рассматривать обитателей прибрежных вод. Регина, поплескавшись на мелководье, тоже растянулась в тени палатки загорать. «А мы решили, что еще на денек задержимся тут, – сказала она в небо, лежа рядом с ними. – Там, в Тель-Авиве, всего двадцать, а тут обещают двадцать девять, и море теплее». Они переглянулись с Богомилой, он улыбнулся: «Да здравствует Эйлат! Значит, уезжаем не завтра вечером, а послезавтра?» – «Ага, – Регина скосила на них глаза. – Переедете на пляж или в хостеле останетесь?» – «В хостеле» – «Ну и ладно. Я хоть высыпаюсь одна в палатке». Богомила приподнялась на локте: «А ты приезжай к нам? Хоть помоешься в душе нормальном». – «Вот еще! – фыркнула Регина. – Тут вполне себе нормальный душ есть, так что спасибо, конечно, но не надо!» Богомила пожала плечом, легла.
…После обеда (они нехотя от жары похлебали какой-то легкий супец) они с Богомилой засобирались в город. Регина спала, они махнули Алексею и покинули пляж. По тротуару, мимо которого они педалили, шли отдыхающие, многие из которых болтали на русском. Один, заметив их, выскочил на дорогу, замахал руками, закричал: «Эй, люди, где взяли велики в прокат?» Богомила, объезжая его, буркнула «Excuse me, please», потом, отъехав, обернувшись, сказала: «Иногда хочется казаться еврейкой или американкой, но тебя упорно вычисляют». Он усмехнулся: «Славянская интуиция?»
В центре кипела курортная жизнь, народ бродил по магазинам, сидел в ресторанчиках и кафе, устремленно двигался на городской пляж и расслабленно – с пляжа. «Ну шо, Сашко, давай твоим родным подарки покупать будем? – предложила она. – Раз уж мы тут. Ты про косметику говорил, типа с Мертвого моря?» Он кивнул: «Ага». Она сошла с велосипеда, показала рукой: «Ну вот, например, магазинчик. И я заодно тетушкам куплю чего-нибудь». Вывеска была на русском, что их уже не удивляло, как и русские продавщицы. Она выяснила у него, что он хочет и для кого: «Жене? Младшой дочери? Сестре?», а потом долго выясняла у продавщицы особенности и цены, перебирала крема, мыло, скрабы, складывала в кучки. Он стоял, прислонившись к полке, смотрел на нее и отвечал что-то невпопад, улыбаясь на ее деловитость, так что она даже рассердилась: «Нет, ну вы посмотрите на него! Ты слышишь меня, Александр Иваныч?» Рассчитавшись и собрав пакеты, они вышли из магазина и медленно покатили в сторону хостела, он ехал и думал: «Ну, не удивительно ли? Она покупала подарки для его семьи, а вот он, смог бы он купить для ее мужа, если бы он у нее был, например, часы? Пожалуй, нет. А она – без проблем» И ему нравилась в ней эта легкость и свобода, эта способность принимать все как есть. Но за всей этой безмятежностью он чуял глубокую ранимость и оголенный нерв и видел, как мелькает в ее сине-зеленых глазах отблеск грусти, даже тоски. Там, в магазине, когда он это словил, ему захотелось подойти к ней, обнять и увести оттуда, ничего не покупая, но он не смог объяснить себе этот порыв, и сейчас, крутя педали вверх, в их район («их район»!), покачивая пакетом с подарками на руле, он снова ощутил приступ тоски предстоящего расставания, до комка в горле, до отчаянного желания заорать во все горло, чтобы выплеснуть с криком всю эту боль – и свою и ее. Но он, конечно, промолчал. «Мужчины ведь не кричат и не плачут, так ведь, Александр Иваныч?»
Они закинули пакеты в номер, она рухнула на кровать, закрыла глаза: «Полежу». Он присел рядом: «Хочешь, поспи? Я посижу рядом». – «Ага». И она отключилась. А он смотрел на нее, на ее разгладившееся от сна лицо, которое он изучил наощупь, и взглядом он делал сейчас то же самое – впитывал каждую ее черточку, каждую трещинку обветренных губ, гладил взглядом ее длинные и тонкие плечи, и не желание обладать загоралось в нем, а что-то другое, странное, полузабытое – вот женщина, которой нужен он. Может быть на время, но нужен. И она нужна ему. А там, дома, кому нужен он вот так? Когда это было, в какой такой прошлой жизни, в каком прошлом веке? А ведь было? Он закрыл глаза, с трудом вызвал в себе образ жены. Да, было. И он пытался это сохранить. И что?
Он потихоньку встал, укрыл ее пледом-покрывалом, она вздохнула, но не проснулась. Этот вздох снова сжал его сердце, он вышел, тихо притворив дверь, поднялся на террасу дома, оперся об ограду. Чужой город, казалось, дремал в спадающем жаре раннего вечера, окрестные дома словно вымерли. Он открыл скайп, вызвал жену. Та не отвечала. Что ж, тем лучше. Меньше вранья. Упал в кресло, прикрыл глаза…
… Он шел по пустыне и снова был один. Только лысые сглаженные холмы, солнце над головой и он – пешком, без велосипеда. Ему нужно было успеть, он догонял кого-то, и он знал, что там, впереди, он нужен. Там нужна его помощь, его руки, его умения. Холм за холмом он преодолевал, надеясь разглядеть с верхушки очередного что-то впереди, но впереди всегда были лишь эти холмы, однообразные холмы Иудейской пустыни. На одном из холмов он встал на колени и глянул в небо: может, там он увидит что-то? Но небо было ослепительно пустым, даже равнодушно-пустым, никакой подсказки, никаких знаков. Он оперся ладонями в дорогу, потом лег в нее, загребая пыль, уткнулся в нее губами и носом, как в подушку… Если небо молчит, если молчит пустыня, где искать ответ? В конце пути? Ведь есть же он, конец пути, где его ждут, где он нужен? Значит, надо вставать и идти, вставать и идти…
Она разбудила его, бесцеремонно устроившись у него на коленях и поцеловав его в губы. Кресло опасно скрипнуло под двойным весом, и она вскочила, легкая, веселая, словно заряженная. «Сашко, ты хотел погулять? Пойдем, пройдемся?» Он встал, потер лицо, словно стряхивая с него пыль пустыни, улыбнулся ей: «Сейчас… Только умоюсь».
Гуляли недолго, район был неинтересным, дома кругом да пара магазинчиков. В центр они идти не захотели. Зашли в магазин, долго выбирали чего-нибудь на ужин и на утро, но все равно купили наугад. Вернулись, она взялась за ужин, разжарила какие-то замороженные пирожки, которые оказались булочками из слоеного теста, съели их под фруктовое молоко, запили чаем. Потом он мыл посуду, а она убежала в душ («Душ! Душ! Можно мыться, сколько хочешь!»), он поднялся в номер, пощелкал пультом, брезгливо пролистал центральные каналы, поймал «Дождь», оставил. Она вошла, прилегла рядом, глянула на экран: «Шо там, Сашко?» – «Да