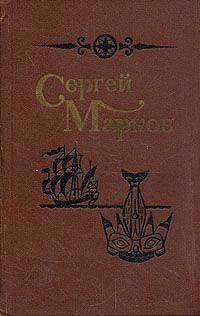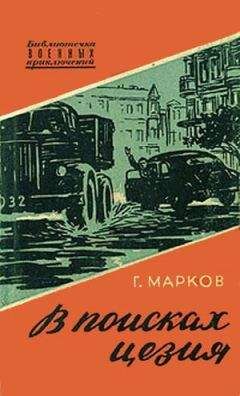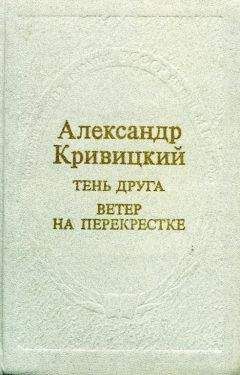Вдев крест в петлицу, глава Русской Америки пошел в бильярдную на партию-другую алагера — любимой его игры в два шара.
Загоскин в это время медленно сходил с высокого крыльца. Индеец Кузьма шел за ним, допытываясь, чем его друг так расстроен. Над их головами раздавался стук костяных шаров: окна бильярдной помещались как раз над входом в дом; из них были видны высокая лестница, плац и ворота Верхней крепости.
Знакомая черная завеса поплыла перед глазами Загоскина, — такая же, как и тогда, когда он стоял навытяжку на шканцах «Аракса» и чужой молчаливый человек срывал с его плеч эполеты.
Спускаясь с крыльца, Загоскин вдруг ощутил страх перед тем, что он пропустит ступень, поскользнется, вывихнет ногу или не дойдет до конца лестницы. Но это чувство было минутным.
Ему показалось, что на него кто-то смотрит из окна бильярдной. Загоскин выпрямился, откинул голову и постарался идти ровно и твердо. Черная завеса исчезла. Загоскин увидел залитый солнцем плац, сверкающие медные пушки и воронов, кружащихся над батареей. Обломок метеорита, который он нес в руке, вдруг показался ему тяжелым и ненужным. Он разжал пальцы, и камень с громким стуком упал на деревянную ступень. Как бы в ответ на этот стук в окне бильярдной показалась напомаженная голова Рахижана. Он взглянул вниз и снова быстро скрылся в глубине бильярдной.
— Не надо, Кузьма! — сказал Загоскин, когда индеец нагнулся, чтобы поднять небесный камень.
Добрый лекарь Флит стоял посредине больничной приемной, а Таисья Ивановна сидела на некрашеной лавке, поминутно вытирая платком набегающие слезы.
— Чего ревешь-то зря? — укоризненно спрашивал лекарь. — Сейчас увидишь его, как только больные пообедают. Не помер твой Загоскин, от этого не помирают!
— Что с ними приключилось? Скажите, господин лекарь.
— Нервическая горячка у него — один из видов Febris, — важно пояснил лекарь Флит. — Горячки разные бывают — простудные, желудочные, воспалительные, гнилые или тифусы, а также и чумные. Горячка нервическая происходит от страстей, сильно волнующих дух и сердце, от гордости и разбитых надежд. Бред, боли меж ребер, общая слабость и крайнее изнеможение, бессонница — суть признаки горячки нервической. Малые порции красного вина, мушки, пущание крови — средства ее излечения. Все это мною и применено. А чем реветь, лучше выслушай меня. Когда ты заберешь его домой, то поступай с ним так. Удаляй все, что может поколебать спокойствие духа и тела больного и возбудить в нем какую-либо страсть, имей над ним должный присмотр и попечение. Сделай отвар из кислых ягод… Еда — овсяная каша, а как окрепнет, можешь давать, что и раньше ел. Вот и все… Отлежится, встанет на ноги, и все пройдет без следа. Расскажи, как болезнь у него началась?
— Пришли они с Кекура от их высокоблагородия задумчивые, сели у меня на кухне за стол и вдруг заплакали, как дите. Я вся, скажу прямо, потерялася и сразу не знала, за что и взяться. Плакали очень долго, утешениев никаких не принимали и вскорости ушли к себе и заперлись. И мне долго не желали открывать, не ели, но пили и начали бредить. В бреду говорили разное — все больше насчет какой-то индианки, потом Кузьму звали, а раз сказали совсем явственно: «Эх, судьба — ворон!» Когда бредили, хотели ружье со стенки снять, но я приказала ихнему индианину Кузьме ружья и пистолеты все попрятать. Вот так они и заболели, рассказываю все по чистой правде. Ваше благородие, господин лекарь, значит, взаправду ничего тяжелого нет?
— Нет, я уже говорил. Идем, я тебе его покажу, — лекарь набил табаком ноздри своего длинного носа, обождал несколько мгновений, с чувством чихнул и только после этого взялся за дверную ручку.
На койке в углу палаты лежал Загоскин. Худой, с ввалившимися щеками, в полотняном колпаке, он, однако, не был похож на тяжелобольного. Сначала он не заметил присутствия Таисьи Ивановны: он видел лишь лекаря Флита, согбенного и похожего на носатого ворона.
— Господин лекарь! — крикнул Загоскин старику. — Дайте мне бумагу и карандаш. Я хочу писать, не могу лежать без дела. Ведь я совсем здоров, черт возьми! Ну, правда, прорвало: был временный упадок, — не железный же я! А сейчас у меня много мыслей, я хочу работать. Поглядите на меня: гипохондриков таких не бывает. Дайте мне бумаги, ну хоть немного.
— В том-то и дело, батенька, что вы — железный. Другой бы на вашем месте не вынес таких скитаний и лишений и отправился бы ad patres. Ну, герой Квихпака, как вы ели свою кашу? Насчет бумаги я подумаю. Вы не гипохондрик, вы — мономан. Но ваш вид мономании — из тех недугов души, которые двигают мирами. Пожалуй, я дам вам карандаш. К вам пришла дама. Разговаривайте, но вещей, волнующих дух и сердце, не касайтесь…
— А и вправду человек оживать стал, — сказала Таисья Ивановна. — Вспомните, Лаврентий Алексеевич, какие вы были. Ну, да где вам это знать… Насилу мы с Кузьмой вас сюда уволокли: все не шли, упирались…
— Да, прежде всего, что Кузьма делает?
— Бог его знает, давно не бывал.
— Где же он? На охоте?
— Да нет… — женщина опустила голову и затеребила край платка. — Расстраивать я вас не хочу, а, однако, придется сказать. Только вы в больницу легли, прибегает антихрист этот, толмач Калистратка. Как зверь на меня зарычал: «Где, мол, загоскинский индианин? Не положено ему тут быть». Как тигра какая, рыскал всюду, нашел Кузьму на огородах, он там овощ мой поливал. Ну, и согнал беднягу со двора, а куда — точно не знаю; то ли к алеутам в бараборы ихние, то ли в колошенские шалаши за палисад… Ох, боюсь, как бы Кузьму родичи его там обратно не сбили, чтобы он вновь палку в губу не продернул. А я уже поплакала, как он ушел от нас. Праведный индианин, на редкость высокой души. Подумать только, какие среди дикарей бывают люди! Я, грешница, напраслину на него взводила. Он, стало быть, господин лекарь, идола из дерева состроил — Лаврентию Алексеичу в подарок, для науки, как они объяснили. А я спервоначалу подумала, что Кузьма к идолопоклонству обратно ворочается. Ну, конечно, напустилась на него. Ведь такие случаи бывали, тойон Ионка, помню, пять раз в язычество уклонялся, даром что одно время служкой в церкви был.
— Идола-то не сожгла без меня? — спросил, улыбаясь, Загоскин. Весть об изгнании Кузьмы он встретил более или менее спокойно, так как был к этому подготовлен еще на Кекуре.
— Помилуй бог, зачем же жечь? Дров и так мне служилые навозили — на всю зиму хватит. Раз идол научный, я его не трогаю. Краска на нем давно просохла. У меня парусной холстины старой кусок был, я в него идола завернула, зашила кругом суровыми нитками и на чердак поставила.