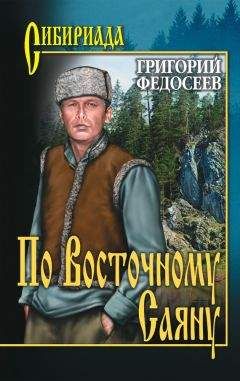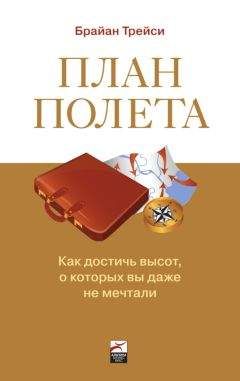Мы медленно подвигаемся вперед, пробиваясь сквозь непогоду. Проводники изредка перебрасываются короткими фразами, после чего обычно караван сворачивает вправо или влево и продолжает путь. Удивительно, как старики угадывали направление! Мы ехали без дороги, вокруг в белесой мгле ничего не видно, но это, пожалуй, вовсе не волновало проводников. Они все чаще покрикивали на оленей и не проявляли сколько-нибудь заметного беспокойства.
Только к вечеру метель стихла и сквозь поредевшее облако показались кусочки голубого неба. Ночевать спустились к реке. Это была первая наша остановка на данном пути, и мы с удовольствием принялись за устройство лагеря: утаптывали снег, выстилали пол хвоей, натягивали на жерди палатку. Через час уж дымилась печь, и, готовя ужин, возле нее суетился Василий Николаевич.
Вечерело. Медленно угасали последние розовые блики на макушках береговых елей. Из боковых ущелий мягко выползала ночь и, пробираясь бесшумными шагами, прикрывала долину тяжелой тенью. Где-то на мари пугливо прокричала куропатка. После бури крепко спал старый лес, не колыхался воздух, но вверху порывисто шумел ветер, будто полчище невиданных птиц проносилось над нами.
– Однако мороз будет, много звезд на небе, все играют, – сказал Улукиткан, пролезая в палатку.
За ним показался и Николай Федорович. Гости уселись в дальнем углу, и Василий Николаевич стал угощать их чаем.
«Вот он, свидетель далекой старины, – думал я, поглядывая на сидящего рядом Улукиткана. – Таких, как он, остается все меньше и меньше. Они уходят из жизни, унося с собою историю и веками накопленный опыт своего народа». Тем более росло желание расспросить старика о жизни эвенков, когда они вели кочевой образ жизни.
Улукиткана не пришлось много упрашивать. Вероятно, ему самому было интересно воскресить в памяти прошлое, и он охотно согласился поделиться с нами своими воспоминаниями.
В палатке было тепло. Чаепитие тянулось долго. Старики, видно, любили понежиться за чаем. Пили медленно, громко втягивая сквозь сжатые губы, и изредка перебрасывались между собой короткими фразами.
Проводники Улукиткан (слева) и Николай за чаепитием
– Спасибо, напился. От крепкого чая, что от доброго слова, сердце мякнет, – сказал, наконец, Улукиткан. Он стряхнул в чашку хлебные крошки, туда же вылил из блюдца недопитый чай, все перемешал и выпил.
Свое повествование старик начал без увлечения, но постепенно разговорился.
– Раньше старики так думали: эксери [13] дал эвенкам оленей таскать груз, кормить их мясом, одевать в шкуры, а бабу дал родить детей, обшивать мужа, варить обед, пасти стадо. За нее никто не должен был работать, за бабу тогда платили большой выкуп. Муж только охота знал да ругал жену, что плохо ведет хозяйство, – не торопясь, рассказывал Улукиткан.
Когда бабе приходило время рожать, она делала себе в стороне от становища маленький чум, люди не должны были слышать, как ревет баба в маленьком чуме. Такой дурной обычай был. Трудно было тогда эвенку достать кусок материи. Мать вытирала ребенка сухой мелкой трухой от старого пня, обкладывала мхом, заворачивала в кабарожью шкурку и приносила в большой чум. Если на пупке долго не сохла кровь, прикладывали серу или присыпали золой из трубки. Крикливого ребенка купали в снегу, чтобы он лучше спал. В такое время родился и я. Это было после зимы, у белки уже появились щенки, и мать назвала меня Улукиткан [14]…
Ворон где труп найдет, там и живет. Мы тоже раньше так: где отец зверя убьет, там и ставили свой чум. Только не всегда ему удача была. Другой раз долго в котел не клали мяса, лепешки не было, масло, сахар совсем не знали.
Отец слышал, что у лючи [15] есть белый камень, когда положишь его в рот, он, что твой снег, тает, язык к губам липнет, как еловая сера, а слюна делается слаще березового сока! У купца он сам тогда видел холодный огонь и рассказывал, что его можно носить долго в кармане, а когда он станет горячим, от него зажигается трубка, береста, дрова – так о спичках тогда говорили. Один раз он возил меня далеко в соседнее становище, чтобы показать зеркальце. Чудно было: всего с ладонь, а вмещает больше чума. Смотришь в него, а видишь все, что сзади тебя. Хозяин шибко радовался, обманул купца – за два соболя выменял зеркальце! Так было, это правда…
Когда я уже умел сгонять ножом тонкую стружку с палки и сидеть на олене не привязанным к седлу, это было время ледохода [16], мы стали кочевать к Учурской часовне [17]. Хорошо аргишать [18] на ярмарку, когда в турсуках [19] много соболиных, беличьих шкурок. Радовались, все думали, какой покупка делать будем, – и то надо и другое. Не было припаса, ружья доброго, муки, котла. Всё хотели купить. Пушнины хватит, два года собирали. Приехали на ярмарку, купцы-якуты добрые кажутся – ведь по короткому лаю собаку от лисы не отличишь сразу. Вином угощали, хорошо разговаривали, пушнину даром не брали, всё меняли: за иголку – белку, за крест – колонка, за топор – соболя, за икону – доброго оленя. Им доход, эвенку диво, и оленям хорошо, возить в тайгу нечего!
Поп ходил по всем чумам, проверял, у кого нет креста в прорубь таскал крестить. Эвенки ему выкуп носили: кто соболя, кто лису. От хороших подарков размяк поп, как снег от майского солнца. Не таскал в воду, крестил в чуме. Мне сказал: тебе имя Семен. Но мать говорила: какой ты Семен, ты Улукиткан!
Разошлась пушнина за вино, за зеркальца, за бисер. Ясак [20] уплатили, богу дали маленько – он тоже любил соболей – и в тайгу ушли, когда лиственница зеленеет [21]. Ушли легко. Только обидно было. Как так получилось: будто все купец считал правильно, белки даром не брал, а турсуки наши остались пустыми? Мать шибко ругала отца, почему ни муки, ни котла, ни куска материи не брал. Он говорил: ничего, бог лючи нынче обещает хороший промысел, опять приедем ярмарку, купим. Да только не так случилось. Если кремня нет, сколько ни бей кресалом по языку, огня не добудешь. Обманул бог, тайга сильнее его…
У старика оборвался голос низкой печальной нотой. Наступила тишина. Кто-то поправил свечу, Василий Николаевич подбросил в печку дров. Из-за ближнего леса луна осветила палатку.
Рассказчик смочил горло холодным чаем, поправил под собою дошку, свернутую комом, и заговорил медленно и еще более грустно. Он рассказал, что на другой год по тайге прошел страшный мор. Это было немного раньше восьмидесятых годов прошлого столетия. У чумов валялись трупы оленей, погибли звери и птицы. Леса на огромном пространстве оказались опустошенными. Эвенки бежали с насиженных мест в далекие соседние районы. В пути падали олени, терялись люди, жирели собаки, воронье. Семья Улукиткана уходила за Становой. От стариков они слышали, что за хребтом есть река Эникан [22], богатая рыбой и зверем. Нужно было перевалить большие горы. Но где найти перевал? Везде проходы завалены россыпями, сдавлены скалами и крепко заплетены стлаником. Шли наугад, питались травой, корнями. Отец заболел и остался на реке Мулам, где пал последний олень. Семья ушла, не дождавшись развязки. Старику дали небольшой кусок самула [23], половину сыромятной узды от павшего оленя да на три дня запасли дров для костра. С ним была старая собака. Что сталось с ними, никто не узнал. На второй день на поляне, где оставили отца, уже не дымился костер. Не догнала семью и собака. Улукиткан с матерью и сестрой после долгих поисков прохода все же вышли на хребет.