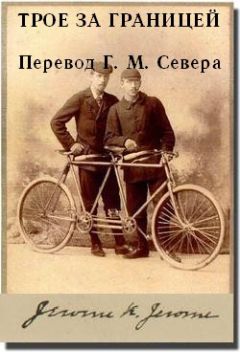Мы разложили карту и принялись обсуждать планы.
Было решено, что мы отплываем в ближайшую субботу из Кингстона. Мы с Гаррисом выедем туда утром и возьмем лодку до Чертси, а Джордж, который не сумеет выбраться из Сити до полудня (Джордж ходит спать в банк, с десяти до четырех каждый день, кроме субботы, когда его будят и выставляют за дверь в два)[8], там нас и встретит.
Будем мы ночевать «на воздухе» или спать в гостиницах?
Мы с Джорджем были за «воздух». Это ведь так привольно и первозданно, так ведь патриархально.
В сердце унылых остывающих облаков медленно угасает золотая память об умершем солнце. Тихие, как печальные дети, смолкают птицы, и только жалобный крик куропатки да хриплое карканье коростеля тревожат благоговейную тишину над лоном вод, где умирающий день испускает последний вздох.
Из сумеречных лесов вдоль берегов реки бесшумно крадется призрачное воинство Ночи — серые тени, в погоню за медлительным арьергардом света, ступая незримой бесшумной стопой по колышущимся речным травам, сквозь вздыхающие тростники. И Ночь, на своем мрачном троне, простирает черные крылья над меркнущим миром — и из своего призрачного дворца, освещенного бледными звездами, царствует в тишине.
И мы направляем лодку в тихую заводь; палатка натянута, скромный ужин приготовлен и съеден. Набиты и закурены длинные трубки, звучит негромкой мелодией дружеская беседа. Иногда мы смолкаем, и река, резвясь вокруг лодки, шепчет загадочные древние сказки и тайны, поет тихонько старую детскую песенку, поет уже тысячи тысяч лет — и будет петь еще тысячи тысяч лет, пока голос ее не состарится и не охрипнет. И нам, которые научились любить ее изменчивый лик, которые так часто находили на мягкой ее груди приют — нам кажется, что мы эту песнь понимаем, хотя не перескажем словами.
И мы сидим здесь, на ее берегу, а Луна, которая тоже любит ее, склоняется к ней как сестра, с поцелуем, и обнимает своими серебряными руками. И мы смотрим, как несет она свои воды, вечно поющая, вечно шепчущая — прочь, навстречу своему повелителю-Океану — пока голоса наши не растворятся в молчании и не потухнут трубки — пока мы, в общем-то обычные, заурядные молодые люди не погрузимся в мысли наполовину печальные, наполовину сладостные, так, что говорить ни о чем не хочется — пока мы, засмеявшись, не встанем и не выбьем угасшие трубки, не скажем «Спокойной ночи!» и, убаюканные плеском воды и шелестом листьев, не отойдем ко сну под огромными спокойными звездами.
И нам приснится, что земля снова юна — юна и прекрасна как была прежде, прежде чем века забот и волнений избороздили морщинами ясный лик ее, прежде чем грехи и безумства чад ее состарили любящее старое сердце ее — прекрасной как была прежде, в те ушедшие дни когда, молодая мать, она баюкала нас, чад своих, на могучей груди своей — прежде чем уловки размалеванной цивилизации увлекли нас прочь, прочь из ее любящих рук, а отравленные смешки искусственности заставили устыдиться жизни простой — той, которую мы вели с нею, того простого и величественного приюта, под которым столько тысячелетий назад родилось человечество.
Гаррис сказал:
— А что если пойдет дождь?
Вам никогда не одухотворить Гарриса. В нем нет никакой поэзии — нет неистовой страсти по недостижимому. Гаррис никогда не «плачет сам не зная о чем». Если глаза его полны слез, вы можете биться об заклад — он наелся сырого лука или перемазал «Вустером» отбивную[9].
Если вы окажетесь с Гаррисом как-нибудь ночью на морском берегу и воскликнете:
— Чу! Не слышишь ли? Не то ль поют русалки в глуби волнующихся вод? Иль духи скорбные то плачут песнь утопленникам в водорослей гуще бледным?
Гаррис возьмет вас под руку и ответит:
— Я знаю, что это, старина. Тебя прохватило. Вот что, пойдем-ка со мной. Тут за углом я знаю местечко, там можно глотнуть такого славного шотландского, какого ты отродясь не пробовал — очухаешься в два счета.
Гаррису всегда известно за углом какое-нибудь местечко, где можно глотнуть чего-нибудь исключительного. Уверен, если вы повстречаетесь с ним в раю (допустим, такое возможно), он немедленно вас поприветствует:
— Я так рад, что ты здесь, старина! Я тут нашел за углом славнейшее место, где можно глотнуть первокласснейшего нектара.
Однако в настоящем случае его практический взгляд на вопрос ночевок на воздухе оказался весьма кстати. Ночевать на воздухе в дождь не приятно.
Вечер. Вы мокрые насквозь. В лодке добрых два дюйма воды, и все мокрое. Вы находите место на берегу, где не так слякотно как вокруг, высаживаетесь, выволакиваете палатку, и двое из вас направляются ее ставить.
Она вся мокрая и тяжелая, и болтается, и падает на вас, и облепляет вам голову, и вы сатанеете. Дождь лет не переставая. Ставить палатку достаточно тяжело даже в сухую погоду; в мокрую задача становится геркулесовой. Вам кажется, что ваш товарищ, вместо того чтобы вам помогать, просто дурачится. Едва вы превосходнейшим образом закрепляете свой край палатки, как он дергает со своей стороны и все гробит.
— Эй! Ты что там делаешь? — зовете вы.
— Это что ты там делаешь? — откликается он. — Не можешь отпустить, что ли?
— Да не тяни же! Осел, все угробил! — орете вы.
— Ничего я не угробил! — вопит он в ответ. — А ну отпусти!
— Да говорю же тебе, ты все угробил! — рычите вы, мечтая до него добраться, и дергаете веревку с такой силой, что у него вылетают все колышки.
— Нет, ну что за идиот проклятый! — слышите вы, как он бормочет себе под нос. За этим следует свирепый рывок, и край срывается уже у вас. Вы бросаете молоток и направляетесь к своему партнеру, чтобы сообщить ему, что обо всем этом думаете. В то же самое время он направляется к вам с другой стороны, чтобы изложить взгляды собственные. И так вы ходите друг за другом по кругу и сквернословите, пока палатка не рушится наземь в груду и не дает вам возможность увидеть друг друга поверх руин. И вы негодующе восклицаете, в один голос:
— Ну вот! Что я тебе говорил?
Тем временем третий, который вычерпывает воду из лодки себе в рукава и который чертыхается не переставая все последние десять минут, желает знать, какого, к черту, дьявола вы там прохлаждаетесь, и почему сволочная палатка еще не поставлена.
В конце концов палатка кое-как установлена, и вы выгружаете вещи. Попытка развести костер безнадежна. Вы зажигаете спиртовку и теснитесь вокруг.
Дождевая вода — за ужином основной пункт меню. Хлеб состоит из дождевой воды на две трети, пирог с говядиной ею просто сочится, а варенье, масло, соль, кофе — всё с нею перемешалось в суп.